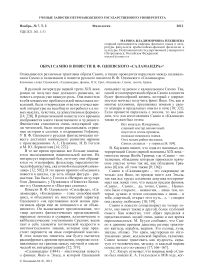Образ Сампо в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра»
Автор: Пекшиева Марина Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Описываются различные трактовки образа Сампо, а также проводятся параллели между калевальским Сампо и талисманом в повести русского писателя В. Ф. Одоевского «Саламандра».
Одоевский, "саламандра", финны, я. к. грот, "калевала", сампо, золото, грааль
Короткий адрес: https://sciup.org/14750274
IDR: 14750274 | УДК: 821.161.1-31
Текст научной статьи Образ Сампо в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра»
В русской литературе первой трети XIX века роман не получил еще должного развития, но повесть играла уже важную роль. Она вместила в себя множество проблем и идей нескольких поколений, была «творческим ответом отечественной литературы на всеобщую потребность в новых мыслях, чувствах, художественных формах» [14; 228]. В романтической повести того времени изображается много таинственного и чудесного. Фантастика становится очень популярной среди читателей, было модно рассказывать страшные истории в салонах в подражание Гофману. У В. Ф. Одоевского русская фантастическая повесть достигает наивысшего развития наравне с произведениями А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова [14; 222].
В то же время прозаики все больше занимаются исследованием национальной жизни. Их интересует народный быт, поэтому они обращаются «к этнографии, фольклору, народнопоэтической фантастике, сказочной и песенной символике» [12; 502]. В это время принято объединять повести в циклы, где есть общая фигура – рассказчик. Так было у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», у Пушкина в «Повестях Белкина» и у Одоевского в «Пестрых сказках».
Повести В. Ф. Одоевского «Сильфида», «Саламандра», «Косморама» – тоже своеобразный цикл, и объединяет их мистический характер. Одоевского «на протяжении всей жизни притягивала сфера еще не познанного и не объясненного». Он высказывает предположение, что «мир детских фантастических представлений, народные легенды и суеверия, алхимические и каббалистические умствования Средних веков таят в себе элементы поэтической мудрости и инстинктуального знания, которые еще предстоит перевести на язык современной мысли». В этих повестях писатель как будто пытается расшифровать древние предания, «нередко останавливаясь на границе между научной и мистической их интерпретацией» [12; 519].
«Саламандра» (1844) – мистическая повесть о финнах Якко и Эльсе, в которой Одоевский связывает чудесное с калевальским Сампо. Так, одной из интерпретаций образа Сампо в повести будет философский камень, который с одержимостью мечтает получить финн Якко. Он, как и многие алхимики, просиживал ночами у своего атанара и проделывал опыты в огне [10; 321]. Если провести параллель с эпосом, то мы увидим, что для изготовления Сампо в «Калевале» также нужен был огонь:
Вот кователь Илмаринен, славный мастер вековечный, опустил в огонь припасы, положил поковки в пламя. Он к мехам рабов поставил, Самых сильных – у горнила [4; 109].
В. Кауконен пишет, что одна из значимых интерпретаций Сампо первой половины XIX века – гипотеза немца Якоба Гримма, где «Сампо – это талисман, обладание которым приносило всяческое счастье точно так же, как обладание Граалем» [6] (см. об этом также [9; 136]).
Сампо в «Саламандре» – это сокровище не только для Якко, но прежде всего для Эльсы, так как все труды алхимика девушка воспринимает как поиск того, что искали предки финнов. «Сампо… Сампо… да, точно, Сампо… Немногим было открыто… немногим… лишь тем, которые душою и телом соединялись с нами… и тебе, смертный, открыт этот путь…», – говорит она своему любимому [10; 319].
Сампо в повести олицетворяет не только золото, оно имеет также и другой, более глубокий смысл. Как известно, этот образ зародился в представлениях людей очень давно и все время переосмыслялся. М. Кууси сообщает, что Сам-по в древние времена давались разные трактовки: кантеле, корабль, жернов. Это солнце, луна, звезды, облако. Это храм, мастерская по изготовлению денег, колдовской барабан, талисман. Сампо можно трактовать как мудрость, скрытую от человечества, загадку, и каждый вправе осмыслить его по-своему [17; 166–167].
Э. С. Киуру отмечает, что впервые миф о Сам-по был описан К. А. Готлундом в 1818 году, ког- да он встречался с так называемыми «лесными финнами» и услышал от них рассказ о самма-се, которого ловили Вяйнямейнен и Емпайнен. Саммас улетел от них в облака, но у него удалось отрубить два пальца ноги: «...один полетел в море, второй удалось вынести на сушу», так саммас, как и сампо, «порождает богатство моря и плодородие земли» [7; 43].
Вообще саммас, как объясняет книга А. Ту-рунена «Калевальские слова и их значения», означает поддержку или опору. Изначально существовало слово «сампа», его производным было «саммас», а «сампо», то есть с -о на конце слова, – это уменьшительно-ласкательная форма [18; 293]. По предположению самого Э. Ленн-рота, Сампо – это «истукан», предмет, который знало только племя биармийцев, поскольку они вели торговлю со славянами и могли увидеть у них изображения богов, и происходит это слово от русских слов сам бог [3; 127].
В науке нет однозначного ответа, что есть Сампо. Можно лишь сказать, что «это нечто желанное и благодатное, с чем связано процветание и счастье людей – благополучие рода, племени, народа», «плодородие земли, изобилие даров моря, все достигнутые и воображаемые культурные блага» [5; 172].
Когда первый раз после долгого перерыва молодой успешный Якко приезжает в Финляндию и Эльса видит его в богатых одеждах, она спрашивает его: «Что же ты нашел, Сампо, что ли?» Якко отвечает, что почти нашел его у русских. Тогда у финна было все хорошо, он был молод, умен, востребован и нужен обществу [10; 263].
Эльса не хочет ехать в Россию – чужую для нее страну, по ее понятиям, там Сампо не найти [10; 263]. Когда девушка смотрит, как строится Петербург, она комментирует: «Ходят усатые вейнелей-сы да землю роют, Сампо ищут» [10; 269].
В повести Эльса изображена как «женщина почти полудикая», ее язык знает только Якко, а сама она «понимает в жизни лишь первые ее потребности…» [10; 264]. Эльса ведет себя как дикарка, как первобытный человек, который не отделяет себя от окружающего мира и не может адаптироваться к чужой культуре. По Е. Н. Ме-летинскому, «в этнографической литературе, особенно психоаналитического направления», часто «подчеркивается значение мифа для разрешения психологических критических состояний, в частности тех, которые возникают в переломные моменты человеческой жизни» [8]. Так Эльса в разговоре с Якко всегда обращается к Сампо.
Н. Я. Берковский пишет, что миф для романтиков вообще очень важен, так как он представляет собой «высший вид поэзии». «Миф – это максимальное развитие, зашедшее далеко вперед сравнительно с совершившимся на самом деле». В мифе выходит наружу вся внутренняя жизнь события, неважно, положительные это силы или разрушительные. Фантастика мифа в произведении необязательно играет главную роль, она входит в игру как раз в побочных эпизодах [2; 60–62]. Мы не можем сказать, что миф о Сам-по, которое все время вспоминает Эльса, играет главную роль в произведении, но при этом он незаметно присутствует и всплывает во всех ярких моментах жизни финских героев.
Одоевский пытается дать описание Сампо. По рассказам старого финна Руси, оно «пестрое, из разноцветных каменьев, и с такою крышей, что теперь всем ковачам не сковать» [10; 248]. Сокровище в «Саламандре» подобно калевальскому:
Сам кователь Илмаринен уж на третий день работы наклонился, пригляделся, посмотрел на дно горнила. Видит – сампо вырастает, Всходит крышка расписная [4; 111].
Как отмечает Э. Г. Карху, в «Калевале» Сам-по – это чудо-мельница, но «не просто самомол-ка, а нечто, связанное с первостихиями, землей и морем» [5; 172]. А. Попов пишет, что «Э. Леннрот постарался включить известные ему разнообразные признаки и черты Сампо, но в общем Сампо – это некое очень важное «легендарное знание», поэтому память о нем сохранялась из поколения в поколение. В образе мельницы «символически обозначен некий космический механизм, влияющий на земную жизнь». Для многих народов Сампо – это мельница, но мельница может сломаться, и это также изображение момента глобальных катастроф и смены эпох [13].
У Одоевского в «Саламандре» представлена эпоха Петра I. С одной стороны, писателю нравилось, что Россия стала на путь европейского развития, но, с другой стороны, в петровской эпохе он видел множество проблем, а именно «утрату современным человеком способности к целостному постижению мира, способности к бескорыстной любви и бескорыстному служению долгу» [16; 316].
В повести Якко с помощью Эльсы-Сала-мандры обретает Сампо в момент падения, когда убивается горем из-за потери статуса и должности: «Ах, мои золотые надежды, где вы? Где вы?». «Был бы жив Великий, не то было бы... А теперь неужели все кончено?» [10; 303]. Спустя какое-то время он получает золотые слитки, но счастье длится недолго, «скоро в душе алхимика место радости заступило другое чувство. С умножением сокровищ мало-помалу стала одолевать его боязнь, что кто-нибудь проникнет в его тайну, похитит его богатство [10; 323]. Якко прячет от людей свои слитки так же, как и старуха Лоухи в «Калевале» – Сампо:
…в каменных подвалах Похьи, в сердцевине медной вары… [4; 469].
Якко получил желанный «Грааль», но счастье ускользнуло от него. Сампо должно оставаться неосуществимой мечтой, в противном случае человек получает безграничную власть, и поэтому символ счастья у Одоевского также является «символом недолжного существования, последовательного отказа от всего человеческого» [14; 275]. Якко хочет иметь больше и, как Герман в «Пиковой даме» Пушкина, идет на убийство и предает тем самым любовь [14; 276].
В. И. Сахаров, ссылаясь на Ф. М. Достоевского, пишет, что тема фантастического в русской литературе порождает новую тему – преступления и наказания. Как правило, в таких произведениях мы встречаемся со злой силой, и она нередко заключает с человеком «преступный и гибельный союз» [14; 212]. В конце повести Одоевского огонь сжигает финских героев. Когда Якко, превратившись в графа, предается «рассеянной московской жизни со всем жаром молодости» [10; 325], Эльса приезжает и уговаривает его вернуться на Иматру, в последний раз дает ему еще один шанс образумиться, но финн уже не способен ее услышать. Тогда весь дом охва-тывет пламя. «...И не стало ни алхимика, ни его печи, ни Эльсы!» [10; 327].
Благодаря Эльсе, которая на протяжении всей повести зовет Якко домой на Вуоксу, мы сталкиваемся с еще одним образом Сампо – образом родимого края. Еще в первой части «Саламандры» Сампо – это финская земля. В легенде старика Руси есть такие слова: «С тех пор проведали и другие люди, что в нашей земле есть такое сокровище; сперва рутцы, а потом и вейнелесы; вот они и спорят с тех пор, кому достанется Сам-по» [10; 248].
П. Н. Соловский, анализировавший произведения Одоевского в конце XIX века, понял Сам- по как «финское божество», о котором спорят Карл XII и Петр Великий. Он призывает видеть в нем «олицетворение исторического значения финского побережья» [15; 36]. В. Г. Базанов пишет, что Я. К. Грот попросил Леннрота растолковать, что он сам думает по этому поводу, и тогда Леннрот ответил, что один из певцов рун как раз считал, что Сампо в большей степени и есть вся земля. Лапландцы называют свою землю «sambe», а русские «земь», «земля», также допустимо, что и «suomi» имеет то же происхождение и означает землю [1; 133–134].
Якко у Одоевского отказывается от родимых финских просторов и от любящей его финки. Земля, где есть Сампо для него, – это Россия. «Последняя нить порвана, – сказал он самому себе, – земля моя – мне чужая. Прощай же, Суо-мия, – прощай навсегда! И здравствуй Россия, моя отчизна!» [10; 289]. Сампо ускользает из рук Якко, потому что оно – лишь мечта, чудо, своего рода поэзия. «Человек, как я уже заметил однажды, – пишет Одоевский в “Русских ночах”, – никак не может отделаться от поэзии» (будем понимать здесь слово «поэзия» как «мечта»), «она, как один из необходимых элементов, входит в каждое действие человека, без чего жизнь этого действия была бы невозможна…» [11; 35].
В романтической дилогии Одоевского происходит много чудесного. Мифический образ Сампо в «Саламандре» занимает значимое место, вторя трактовке карело-финского эпоса. Он имеет несколько интерпретаций, представляя собой золотые слитки алхимика, олицетворяя счастливый талисман и недостижимую мечту, а также является символом родины, спокойствия и удовлетворения жизнью.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Образ Сампо в повести В. Ф. Одоевского «Саламандра»
- Базанов В. Карелия в русской литературе и фольклористике XIX века. Петрозаводск: Гос. издательство КарелоФинской ССР, 1955. 310 с.
- Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит., 1973. 568 с.
- Грот Я. К. О финнах и народной поэзии. 1840.//Труды Я. К. Грота. Из скандинавского и финского мира. СПб., 1898. С. 100-148.
- Калевала: Эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен. Петрозаводск: Карелия, 1998. 583 с.
- Карху Э. Г. Элиас Леннрот. Жизнь и творчество. Петрозаводск: Карелия, 1996. 237 с.
- Кауконен В. Как Леннрот представлял себе Сампо/Пер. Э. С. Киуру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vottovaara.ru/joomla/kak-lennrot-predstavlyal-sebe-sampo.html.
- Киуру Э. С., Мишин А. И. Фольклорные истоки «Калевалы». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 248 с.
- Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 407 с.
- Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1988. 382 с.
- Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 327 с.
- Пахомов С. В. Грааль//Новая российская энциклопедия: В 12 т.: Головин -Даргомыжский. Т. 5 (1). М.: Энциклопедия, 2008. 480 с.
- Петрунина Н. Н. Проза второй половины 1820-х -1830-х гг.//История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1981. С. 501-529.
- Попов А. Загадка калевальского Сампо [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vottovaara.ru/joomla/zagadka-kalevalskogo-sampo.html.
- Сахаров В. И. Страницы русского романтизма: Книга статей. М.: Сов. Россия, 1988. 352 с.
- Соловский П. Н. Князь В. Ф. Одоевский и его сочинения. Чернигов: Губернская типография, 1884. 43 с.
- Турьян М. Странная моя судьба. М., 1991. 398 с.
- Kuusi M. Perisuomalaista ja kansainvalista//Tietolipas 99. Helsinki: SKS, 1985. 225 s.
- Turunen A. Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino OY, 1979. 416 s.