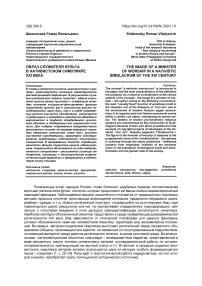Образ служителя культа в нативистском симулякре XXI века
Автор: Шиженский Роман Витальевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье вводится понятие «нативистский симулякр», анализируются основные характеристики рассматриваемой дефиниции. В результате изучения центральной страты понятия - образа служителя культа автор приходит к следующим выводам: основная «визуально-фиксируемая» функция служителей культа, как в осетинском культе последователей «ирон дин», так и в среде современных русских языческих объединений, заключается в организации и проведении празднично-обрядовых мероприятий в пределах определённого культового объекта, в поддержании его сакрального статуса. Для лидеров современных доавраамических религиозных систем, на примере авторских проектов идеологов осетинской «ирон дин», русского язычества («родноверия»), характерно конструирование мифологемы собственного этнического священства. В программных текстах «традиционалистов» фигура служителя культа идеализирована. Сакральность достигается за счёт табуированности священства - умышленной изоляции от неофитов, инициации в доисторическом мифологическом мире прародины и превращении в генетичекую элиту социума.
Нативизм, симулякр, неоязычество, жречество, сакральные места, элита, этнос, утопия
Короткий адрес: https://sciup.org/149134837
IDR: 149134837 | УДК: 299.5 | DOI: 10.24158/fik.2020.7.6
Текст научной статьи Образ служителя культа в нативистском симулякре XXI века
XXI ВЕКА
Религиозный атлас народов России, стран ближнего зарубежья периода постмиллениума включает регионы terra ignota, «жители» которых продолжают активные поиски мировоззренческой самоидентификации. Наблюдаемый процесс значительно отличается от традиционных поисковых методик прошлых столетий, включающих возрождение этноязыка, празднично-обрядового цикла, ремёсел, одежды и т.д. Новый религиозный конструкт, опирающийся на источниковую базу наук гуманитарного цикла, умышленно или нет, но претерпевает определённую трансформацию, связанную с попытками введения в поле дискурса самоидентификации религиозного симулякра. Наиболее наглядно обозначенный симулякр представлен в среде приверженцев доавраамической религиозности XXI века. Вне зависимости от этнической платформы для данного феномена, условно обозначенного нами как нативистский симулякр, характерен ряд аксиомических положений. Во-первых, автором-создателем симулякра выступает религиозный лидер конкретного объединения (общины, организации) или идеолог, не связанный со структурированным содружеством, но имеющий авторитет среди адептов религиозного течения, в целом культовой среды. Во-вторых, основа, «интеллектуальная оболочка» симулякра – поливариантный нарратив, представленный в виде священного текста, полевых дневниковых записей, исследовательской работы по истории, этнорелигиозности, претендующей на научный статус и т.п. В-третьих, в процессе создания нати-вистского симулякра автором активно используется одна из методик особого формирующегося языка – «новояза» [1, с. 25–33]. Речь идёт о текстологической работе лидера-автора, за счет которой «новояз» приобретает черты полноценного исторического источника.
Ставка на «стародавность» как доказательство «исконности» – центральный сюжет создаваемого нативистского симулякра. Ради утверждения историчности своего творения авторы, даже при отсутствии необходимого источникового материала, заявляют о непрерывности отстаиваемой мировоззренческой традиции. Вторым вариантом становится определённая игра с читателем в знание истории. В роли гарантии – «расписки» – выступает комплекс признанных исторических нарративов и историография, посвященная вопросам архаических верований. Вместе с признанным наукой материалом в издание попадает и творчество идеологов от нативизма. Данное положение подтверждает вывод Е.Г. Балагушкина об особенностях создания канонической литературы в новых религиозных движениях [2, с. 122].
Нативистский симулякр, как и сам фундамент данного феномена, – новое религиозное движение, аксиомически подверженное структурной и идейной пролификации. Как было отмечено выше, рассматриваемый конструкт предполагает искусственный симбиоз авторского текста и официально признанных источников. Вместе с тем наблюдается и другой вид «мутации», в результате которой первоисточником становится фальсификация. Соответственно, надстройка – авторский текст – вступает в патронимические отношения с псевдоисточником, накладывается на изначальную фикцию. Сошлёмся на изыскания идеолога «Объединения родноверов Украины» Г.С. Лозко (волхвиня Зореслава) [3] и лидера Новороссийской северокавказской общины «Славянское наследие» Г.З. Максименко (волхв Славер) [4], многократно переиздавших «Веле-сову книгу» с собственными переводами, комментариями, помноженными на исторические религиозные тексты собственного сочинения.
В некоторых случаях работа над формулами «копировать – вставить» – «псевдоисточник в квадрате», за счет которой нативистский симулякр, по замыслу автора, должен приобрести черты полноценного исторического источника, даже не требуется. Паства в лице читателей считает творение своего учителя настоящим откровением, искомым источником, раскрывающим основы веры. Мессия украинского «рідновірства» Лев Силенко издаёт «священную» книгу проповедей, «Мага Віра» (первое издание – в 1979 году) [5], упоминавшийся Велеслав дарит в 2013 году последователям «Северный Дневник» – путевые заметки, сделанные волхвом «Велесова Круга» во время путешествия в Уппсалу, остров Рюген [6], «Верховный волхв Всея Руси» Владимир Богумил Второй (В.Ю Голяков) в 2017 году выпускает книгу «Речи Родного»: «первоисточник миропонимания славян от древности до современного времени» [7, с. 2]. Все эти книги продолжают пользоваться спросом, несмотря на официальный запрет (входят в российский федеральный список экстремистских материалов).
Одно из центральных мест в конструкте нативистского симулякра занимает образ служителя культа: жреца, шамана, волхва и т.д. В данной связи следует обратиться к рассмотрению книги «Три слезы Бога» североосетинского художника, общественного деятеля С.Х. Джанайты. В основе произведения – рассуждения автора, посвящённые описанию роли служителей культа в структуре древнеосетинского общества. Согласно материалам, приведённым в монографии, определённые люди являлись хранителями (дзуарлæг-ами) сакральных сооружений. Им вменялось поддержание порядка в храмах. Хранители отвечали за вынос ритуальных предметов и приношений во время праздничных церемоний. Сакральное пространство, включающее сам храм-хранилище (по классификации С.Х. Джанайты) и примыкающую огороженную территорию, было табуировано для масс верующих [8, с. 12]. Согласно предположению автора, часть дзуарлæг-ов постоянно проживала в цардаках – каменных строениях, окружающих храмы. Причина постоянного нахождения служителей в священном пространстве заключается в статичности обрядовой практики: «в Рекоме, кроме основного летнего празднования, происходил круглогодично обряд братания (и ряд других культовых действий), для чего необходимо постоянное присутствие дзуарлæг-ов» [9, с. 16]. Итак, в соответствии с концепцией С.Х. Джанайты, в архаичном=идеаль-ном прошлом осетин дзуарлæг-и – смотрители храма и священнослужители, проводящие регулярные годовые обряды.
Во многом идентичным выглядит набор традиционных для современных служителей культа опций в сообществах русских «родноверов». Вот какие права и обязанности существовали и существуют у священнослужителей, по мнению жреца орловской славянской общины: «Святилище обычно состоит из капища и требища. Оба они отделены от обыденного пространства. На требище собирается основная масса народа, там организуется трапеза. Для этого в древности на требищах создавались специальные сооружения. Там же жили сторожа и дежурный жрец, хранился необходимый инвентарь и запас дров <...> Наиболее сильным местом святилища является капище. Это ворота в мир Богов, находиться там должны только жрецы или подготовленные, сильные люди» [10].
Запрет на вхождение в сакральное пространство характерен и для некоторых языческих храмов XXI века. К примеру, в храме «Огня Сварожича» ССО СРВ во время обрядовых церемоний разрешается находиться исключительно жречеству. В обычное, внепраздничное время храм закрыт. На территории храма «Марены и Велеса» с 2018 года постоянно живут, проводят празднично-обрядовые мероприятия волхвы Богумил и Ракита – представители языческого духовенства «содружества славянских родноверческих общин “Велесов Круг”».
Приводя в пример опыт скифов, С.Х. Джанайты наделяет служителей культа ещё одной центральной функцией – воспитательной. Соответственно, храмы становятся высшими школами, а цардаки – учебными классами, где молодёжь наставляют «мудрецы-учителя-сказители» [11, с. 20–21]. Кроме того, свои знания хранители реализовывали в символике, мифах и топонимии. Ссылаясь на местные легенды, автор книги сакрализирует дзуарлæг-ов, выдвигает предположение о существовании в недавнем прошлом в Осетии общества идейных хранителей, сумевших передать знания потомкам. Избранные обладают следующими характеристиками: надежностью, честностью, благородностью и немногословностью, способностью передавать «тысячелетние знания» по наследству.
В «Трёх слезах Бога» приводится отдельная история появления элитарной иерархической группы. Согласно авторской гипотезе, построенной на собственном прочтении Нартиады, древние нарты представляли собой элиту, выделившуюся из единого индоевропейского мира периода энеолита. Нарты (по мнению писателя, это реально существовавший народ – «раг фыдæлтæ») отвечали за общеевропейские святыни, обеспечивали кочевников передовыми изобретениями (в том силе бронзовым оружием), обучали и воспитывали вождей для степных племён [12, с. 90]. Примечательно, что элитарность нартов – генетическая! Сообщество «лучших из лучших» обязано своим появлением климатическим изменениям (С.Х. Джанайты определяет этот период серединой III тысячелетия до н.э. и находит название его в Нартиаде – «время Кара») на Кавказе. Похолодание способствовало сегрегации, оно оставило в кавказских горах избранных хранителей храмовой территории, слабые (худшие) нарты были вынуждены спуститься с гор. Отметим, что даже «изгнанные», не прошедшие испытание холодом, они в мифопостроениях автора остаются носителями голубой крови, становятся правящей элитой покорённых народов. На этом описание конструируемой иерархии не заканчивается. Оставшиеся создают поселения-храмы, называемые писателем «Асгарды», «начинают постигать высшую иерархическую ступень “Асов” – ступень неизвестных, в том числе трансцендентальных (сверхчувственных, сверхкатегориальных) знаний (“Батраз”), и совершенствовать благороднейшую и человеколюбивую идеологию (“Сослан”)» [13, с. 92]. Двенадцать асов, соотносимые автором и с одной из групп богов скандинавской мифологии, и с рыцарями Камелота, наделяются не только статусом учителя: «Асы – мудрецы, но асы – это и непревзойденные воины [Боговоины]» [14, с. 142].
Русская новоязыческая «волховская педагогика» широко представлена в творчестве Доб-рослава (А.А. Добровольского) и Велимира (Н.Н. Сперанского) – дидаскалов движения XX столетия. По мнению Велимира, в древности определённая группа посвященных находилась вне социума. Служители культа жили в тайных поселениях, где совершенствовали свои знания. Языческие отшельники-волхвы, как отмечает Н.Н. Сперанский, и составляли элиту учителей – хранителей традиции. В работах Велимира, ряда других идеологов «Коляды Вятичей» образ волхвов мифологизирован и органически введен в главный сакральный текст общины. Согласно «Мифу о творении» волхвы являются учениками Чернобога, для них характерны шаманские путешествия между мирами. В представлениях простого населения это сверхлюди, пользующиеся покровительством бога Велеса [15, с. 11]. Кроме того, лидер московской языческой группы отдельно обращает внимание на этничность верховного «родноверческого» духовенства. Волхвами могут быть исключительно представители славянского этноса. Языческая элита мыслится Н.Н. Сперанскому как образчик поведения, спаситель и учитель будущих поколений [16, с. 31].
Отсутствие единства в современном сообществе лидеров нативистов, свойственные русской жреческо-волховской группе разногласия в обрядовой деятельности, общинном устройстве, мировоззрении в целом подтолкнули Велимира к идее создания «Великого Капища» – «родно-верческой церкви». Важнейшим элементом «Капища» должны стать специализированные монастыри. В данных «скитах» духовные вожди нации должны разрабатывать сакральное знание с последующей трансляцией основ мировоззрения в социум.
Взгляды А.А. Добровольского на фигуру волхва во многом сходны с рассуждениями Н.Н. Сперанского. Этот языческий пастырь традиционно возглавляет представителей культа, без преувеличения являясь сверхчеловеком. Функционал младоязыческих вождей не ограничен храмовым и капищным «служением». Согласно гипотезе Доброслава, на волхвах лежит ответственность за обучение славян и вообще за появление здорового поколения. Рассматриваемая «каста» несёт ответственность и за составление, передачу мифов и легенд [17].
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что волхвы Добровольского являются не только духовными менторами нации, воспитателями и учителями славян прошлого и будущего. Вятский отшельник наделяет волхвов политическим функционалом. При этом этнополитическая повестка становится для верховных служителей культа основной.
Климат и евгеника бесписьменной «доистории» каменного века, выполняющие роль катализатора и способствующие, согласно гипотезе С.Х. Джанайты, появлению нартской элиты, находят аналог в более ранних авторских вариациях Доброслава и норвежского одалиста Варга Ви-кернеса. В соответствии с версией идеолога современного скандинавского язычества арийская раса своим появлением во многом обязана суровым условиям Атлантиды. Норвежский язычник считает, что выживание и обучение в неблагоприятных условиях горной части легендарного континента позволило современным ариям сохранить «голубую кровь», исключив расовое смешение. Вынужденная «природная сегрегация» предоставила возможность пятой (сегодняшней) расе превзойти предшествующие сообщества в интеллектуальной сфере [18, с. 36, 77].
Викернес выделяет несколько важнейших этапов развития древних скандинавов. Наиболее значимы, по мнению писателя, эпохи камня, верхней бронзы и начало знаменитой эпохи викингов. Подобно автору «Трёх слёз Бога», ссылающегося на тексты «Нартиады», Викернес конструирует свои выводы, используя данные скандинавских средневековых нарративов (песен «Эдд», исландских саг). Место осетинской элиты («круглоголовых, именитых») в исторической утопии Варга Викернеса занимает мифологический род Ярла. Представителей данной «касты» (в трактовке автора – «nordic race») бог Хеймдаль вдохновил на проведение правильных, угодных богам обрядов, открыл основы необходимых знаний. Всё это позволило потомкам Ярла встать в один ряд с богами, уподобиться легендарным асам [19, с. 99, 104].
В свою очередь, по мнению васенёвского отшельника, открытиями эпохи камня человек обязан всё тому же климату. В соответствии с утопическим проектом Доброслава носителями нордической крови являлись кроманьонцы, населявшие Заполярье (материк Арктиду). В эпоху камня они расселились по Европе, участвуя в расовых войнах, направленных против неандертальцев [20, с. 17]. В своих работах автор подчёркивает принадлежность завоевателей к европеоидной расе. Кроме внешних признаков, превосходство «нового человека» состоит в обретении речи, налаживании социальных связей, развитии религиозных представлений.
Исследование одной из центральных страт нативистского симулякра – образа служителя культа позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, для лидеров современных доавраами-ческих религиозных систем, на примере авторских проектов идеологов осетинской «ирон дин», русского язычества («родноверия»), характерно конструирование мифологемы собственного этнического священства. При этом религиозный вождизм возведён в ранг исторической мировоззренческой константы. Во-вторых, «внешний» религиозный функционал и дзуарлæг-ов, и жрецов включает служение в сакральном пространстве, охрану и преумножение реликвий, проведение годовых праздников. Безусловно, данная составляющая образа служителя культа показательна и важна в рамках религиозной агитации. Создавая подобную проекцию, накладывая свои идеи на историческую ретроспекцию и реализуя служение на практике, лидеры не только придают деятельности авторского этносвященства черты реальности – «мировоззренческой осязаемости», но и за счёт всё того же культового декорирования анонсируют приток новых адептов. В-третьих, утопический проект идеального служителя культа в рамках заявленного нативизмами этернализма предполагает передачу дзуарлæг-у/жрецу воспитательных функций, превращение сакрального пространства в учебное заведение. В-четвертых, в программных текстах «традиционалистов» фигура служителя культа идеализирована. Сакральность достигается за счёт табуированности священства – умышленной изоляции от неофитов и становится следствием инициации в доисторическом мифологическом мире прародины и превращения в генетичекую элиту социума.
Ссылки:
-
1. Шиженский Р.В. Особенности нового языка («новояза») русских язычников XXI века // Научное мнение. 2017. № 11. С. 25–33.
-
2. Балагушкин Е.Г. Проблемы морфологического анализа религий. М., 2003. 218 с.
-
3. Лозко Г.С. Велесова Книга – Волховник. Тернопiль, 2010. 520 с.
-
4. Максименко Г.З. Велесова книга. Веды об укладе жизни и истоке веры славян. М., 2018. 672 с.
-
5. Силенко Л. Мудрiсть Украïнськоï Правди. Наука (Катехизм) РУНВiри. Киïв, 1996. 480 с.
-
6. Волхв Велеслав. Солнце героев (Северный Дневник). М., 2013. 296 с.
-
7. БогоМил Второй (Голяков В.Ю.) Речи Родного. Ливы, 2017. 336 с.
-
8. Джанайты С.Х. Три слезы Бога. Владикавказ, 2007. 158 с.
-
9. Там же. С. 16.
-
10. Мирослав, жрец. Священные места славян [Электронный ресурс] // Союз славянских общин славянской родной веры. URL: https://www.rodnovery.ru/stati/521-svyashchennye-mesta-slavyan (дата обращения: 30.03.2020).
-
11. Джанайты С.Х. Указ. соч. С. 20–21.
-
12. Там же. С.90.
-
13. Там же. С.92.
-
14. Там же. С.142.
-
15. Мезгирь, Велимир, Пересвет. Суть языческой веры. Б.м.: Коляда Вятичей, 2008. 32 с.
-
16. Там же. С.31.
-
17. Доброслав. Мать-Земля: чудо-чудное, диво-дивное (введение в геобиологию). Б. м., б. г. 86 с. ; Его же. Доброслав. Язычество: Закат и Рассвет. Вятка, 2004. 80 с.
-
18. Викернес В. Скандинавская мифология и мировоззрение. Тамбов, 2007. 232 с.
-
19. Викернес В. Речи Варга II. Тамбов, 2011. 224 с.
-
20. Доброслав. Зов Туле. Б. м.: Хлыновский экспресс, 2006. 83 с.
Редактор: Ситникова Ольга Валериевна
Переводчик: Бирюкова Полина Сергеевна
Список литературы Образ служителя культа в нативистском симулякре XXI века
- Шиженский Р.В. Особенности нового языка ("новояза") русских язычников XXI века // Научное мнение. 2017. № 11. С. 25-33
- Балагушкин Е.Г. Проблемы морфологического анализа религий. М., 2003. 218 с
- Лозко Г.С. Велесова Книга - Волховник. Тернопiль, 2010. 520 с
- Максименко Г.З. Велесова книга. Веды об укладе жизни и истоке веры славян. М., 2018. 672 с
- Силенко Л. Мудрiсть Украïнськоï Правди. Наука (Катехизм) РУНВiри. Киïв, 1996. 480 с