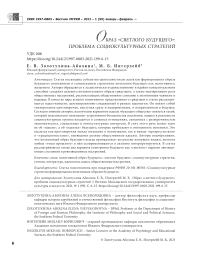Образ "светлого будущего": проблема социокультурных стратегий
Автор: Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна, Ингерлейб Михаил Борисович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История и теория культуры
Статья в выпуске: 1 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена субъектно-деятельностным аспектам формирования образа будущего: спонтанным и сознательным стратегиям полагания будущего как позитивного, желаемого. Авторы обращаются к эссеистически-художественному и идейно-концептуальному способам создания целевого положительного образа грядущего, а также подчёркивают роль общественных настроений, располагающих общественное сознание к позитивным чаяниям и надежде. В качестве ядра всякого позитивного представления о грядущем в статье рассматривается идеал-концепт, целенаправленно создаваемый в рамках идеологии. Он являет собой темпоральное противоречие, выступая сразу и надвременным, и направленным в будущее. Согласно мнению авторов, наилучшим вариантом идеала «будущего общества» является такой, который максимально охватывает устремления большинства населения, однако в реальности социокультурные группы находятся в сложных отношениях, связанных с разноречивостью экономических, социальных и этнокультурных интересов. В силу этого речь может идти не об «идеале», а об «идеалах» будущего, которые пребывают в отношениях полемики. Это касается как противоречия между имущими и неимущими, так и между «прогрессистами» и «традиционистами», имеющими разные общественные идеалы. Авторы подчёркивают, что позитивный образ будущего всегда принадлежит актуально живущим людям, поэтому любые «темы прошлого» в нём осовремениваются и активно интерпретируются. В статье рассматриваются также два варианта усмотрения будущего как «светлого»: вариант эволюционных состояний и революционных настроений.
Позитивный образ будущего, "светлое будущее", социокультурные стратегии, утопии, литература, идеология, идеал, общественные настроения
Короткий адрес: https://sciup.org/144161550
IDR: 144161550 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-199-6-15
Текст научной статьи Образ "светлого будущего": проблема социокультурных стратегий
Постановка проблемы
Будущее от нас закрыто – об этом говорит повседневный человеческий опыт, но также опыт прогностики, пророчества, мечты, научной фантастики и других попыток заглядывать за горизонт текущего дня. Однако люди упорно строят образы будущего, пытаясь забежать за горизонт текущего момента. В одних случаях они пытаются усмотреть то, «как оно объективно сложится», в других – ставят цели и активно намереваются создать будущее именно таким, каким они хотели бы его видеть. Две эти тенденции нередко путаются и смешиваются, подменяют друг друга, и это неудиви- тельно, ибо они действительно глубоко связаны – «объективный процесс» выплетается из совокупности вполне субъективных усилий, ведомых желаниями и целями.
В предлагаемой читателю статье мы будем говорить о субъектно-деятельностном аспекте вопроса. Задача статьи – указать на те социокультурные стратегии, которые порой спонтанно, а порой сознательно применяются в обществе и культуре для того, чтобы не просто уловить, но именно сформировать черты грядущей жизни, её условия и обстоятельства, которые на сегодня ещё не родились. Это также вопрос о надежде и о тех идейных и эмоциональных мо- тивах и стимулах, которые способны побудить большие массы людей действовать целенаправленно, приближая своими усилиями не любое, а именно желаемое будущее.
Эссеистические и художественные произведения – способ выяснить, чего же мы хотим?
Желаемое будущее – это прежде всего образ, понятый в данном случае не как исключительно визуальное явление, но как целостное представление, которое может быть выражено в тексте, как в устном, так и в письменном. Утопии – трактаты, совмещающие в себе разные жанры, а также повести и романы, моделирующие «прекрасное будущее», дают возможность чувственно насыщенного, полимодального приобщения к тому, что полагается целью и ценностью для развития. Благодаря им можно с помощью воображения созерцать «мир грядущего», слушать его голоса, анализировать его устройство, давать оценки его законам и установлениям. Можно вступать в полемику с мнениями персонажей, понятых как «люди будущего», проследить развёртывание помещённых во временную перспективу исторических событий и личных судеб. «Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, романы И. Ефремова и братьев Стругацких – примеры такой многоплановой прорисовки самых разных сторон того мира, который мыслится как «прекрасный в своей гуманистической нормальности и нормальный в своей красоте и справедливости».
Обратим внимание, что на фоне огромного количества мрачных антиутопий существует очень мало развёрнутых описаний «земного Эдема», они нередко страдают абстрактностью и ходульностью. И хотя, например, романы И. Ефремова [5] содер- жат, наряду с демонстрацией социального совершенства, также темы противоречий и трудностей, герои подобных произведений нередко чересчур идеальны. Эссеистика и романистика, стремящиеся выразить «позитивное будущее», во многом являются некой попыткой воплотить в художественной форме общечеловеческий архетип Рая, где есть все условия для блаженства. Здесь, образно выражаясь, лев дружит с ягнёнком, а каждому воздаётся по его заслугам, но поскольку заслуги у всех похвальные, то и получают все счастье и вдохновение и лишь с ужасом оглядываются на мрачное прошлое, которое ко всеобщему благополучию уже преодолено. В сущности, для работы с массовым сознанием искреннее и талантливое изображение позитивного будущего – большая ценность, несмотря на возможные минусы. На сегодняшний день и литературные тексты, и кинопроизведения такого типа в большом дефиците, но, видимо, для их создания необходимо нечто большее, чем богатая фантазия автора, и нужен прежде всего социокультурный идеал, который находит выражение и разработку и у идеологов, и у теоретиков.
Формирование социогуманитарной и политической теорией идеала будущего общества, в отличие от во многом спонтанного художественного творчества, является осознанной и целенаправленной стратегией , последовательной и неотступной. Оно может осуществляться как в борьбе социальных сил, так и при последовательных действиях властей предержащих – это зависит от исторического контекста.
Идеал как концепт желаемого будущего
Тема идеала, как известно, восходит к высокой Античности, разрабатывается в немецкой классической философии, всег- да присутствует в теологических штудиях и активно входит в идеологические разработки ХХ века. В нашей стране во второй половине ХХ и начале ХХI века к теме были обращены работы Э. В. Ильенкова [7], В. Е. Давидовича [3], Р. Г. Апресяна [1, с. 73– 74], Е. В. Золотухиной-Аболиной [6] и других. В более поздний период, судя по материалам публикаций и диссертационных исследований, тема социального идеала рассматривалась в первую очередь в историко-философском ключе (Г. З. Искандерова, Л. А. Никитич, А. В. Скоробогатенко и другие).
Социокультурный идеал (как и любой идеал вообще – этический, эстетический), представленный в качестве концепта, теоретической конструкции, являет собой единство высшей цели и ценности . Сам по себе он выступает как целостное, прежде всего вербально выраженное представление о совершенном, желаемом и гармоничном положении дел. Это, как правило, описание главных черт того общества и той культуры, которые видятся в качестве привлекательных и выступают образцом для достижения и подражания. В ХХ веке и сегодня мы обнаруживаем ряд таких идеалов-ориентиров. Это коммунистический идеал (К. Маркс и советский марксизм), социал-демократический (линия К. Каутского и Э. Бернштейна в марксизме); традиционалистский (Р. Ге-нон, Ю. Эвола), либертарианский идеал с его «открытым обществом» (Ф. Хайек, К. Поппер, Л. фон Мизес, в литературе – А. Рэнд), глобалистический идеал (З. Бжезинский, Дж. Сорос, И. Валлерстайн, в России – В. Л. Иноземцев). Апеллируя к разуму, идеалы одновременно активно обращены к эмоциям, они формируют ощущение миссии, чувство смысла, ради которого можно многим пожертвовать.
Специфика идеала как стимула определённого типа действий состоит в его темпоральной двойственности . С одной стороны, идеал – это нечто «трансцендентное», запредельное, стоящее «над» наличной действительностью и временем, располагающееся в области сугубо ментальной и эмоциональной, то есть он по определению не достижим. Он – линия горизонта, но такая линия, которая манит, вдохновляет, зовёт к развитию, обещая переживание совершенства. Без идеалов как высших ценностей и целей жизнь превращается в однообразие и скуку обыденности: люди утрачивают жизненный пафос. Нигилизм – плоская приземлённость, низвергающая «высокие идеалы», ведёт к личностному и социальному распаду. Здесь не лишне вспомнить мудрые слова А. Маслоу, который пишет: «... мотив “развития личности” … поддерживает напряжение ради далёкой и зачастую недостижимой цели» [10, с. 56].
С другой стороны, идеал, и в особенности социокультурный, предполагает путь, по которому идут к его хотя бы частичной реализации, то есть он расположен в «области будущего», и путь к его воплощению – это путь во времени. На базе идеала-концепта, развёрнутого идейного представления, формируются разного рода проекты, экономические и политические программы. Любая политическая партия и любое министерство экономики явно или неявно руководствуются социальными идеалами, которые они «темпорализируют», выстраивая последовательность действий: через год мы достигнем того-то, через десять лет другого, а через двадцать ещё того и того… Иногда, особенно в либеральном прочтении, речь не идёт об активном «заглядывании за горизонт», но образ «нужного социума» всё равно подспудно имеется в виду, даже если просто говорят, что «обстановка, видимо, сложится определённым образом».
Постоянно идущая разработка концепции «идеального общества» выглядит уже вовсе не утопической (в смысле – недостижимой) – это социальное проектирование, будь оно краткосрочным или долгосрочным. В своей запредельной ипостаси социокультурный идеал оказывается чем-то вроде света, освещающего путь, а в темпоральной – совокупностью действий, имеющих привязку к конкретным срокам. Здесь «позитивный образ будущего» оказывается предметом обсуждения, и вопрос стоит о том, ближе мы к нему сегодня или дальше от него. Так, даже отъявленное либертарианство, ратующее за безбрежную свободу, вовсе не брезгует тем, чтобы изыскивать финансы на поддержку и сегодня, и завтра всех режимов, делающих ставку на «чистый рынок», стало быть, борется за свой образ «светлого будущего».
Нам представляется, что социокультурный идеал – это антропологическая универсалия, поэтому трудно согласиться с мнением Л. В. Константиновой, которая пишет: «… если мы допускаем наличие общественных идеалов в обществе Постмодерна, то в видоизменённой форме. По сравнению с классическим представлением здесь происходит существенная технологизация, плюрализация, прагматизация, симулякри- зация идеалов, в силу чего из значимого социального детерминанта он превращается в одну из форм проявления повседневности» [8]. Думается, идеал всё же не становится симулякром (то есть беспредметной иллюзией), а множественность и прагматичность ему бывали присущи и в прежние эпохи, просто они не всегда очевидны. Приятно тем не менее, что автор высказывает надежду на то, что от порядком надоев- шего Постмодерна мы перейдём к некоему Неомодерну, где социальные идеалы всё же оживут и обновятся.
«Светлое будущее»: идеал или идеалы?
Проблема социокультурного идеала как позитивного образа будущего осложняется тем, что практически не бывает «прекрасного будущего», которое удовлетворяло бы чаяниям и стремлениям всех социальных групп. Социум сложен, он предполагает наличие множества противоречащих друг другу интересов – экономических, политических, этнокультурных. Эти интересы связаны с объективным историческим статусом групп – одни из них на стадии восхождения, другие – заката, третьи находятся в расцвете своего господствующего либо, напротив, униженного положения. То, что одним – рай, другим видится как вполне адская перспектива. Поэтому идеалы и программы, которые разрабатываются и внедряются в общественное сознание властными и управленческими структурами, пропагандой, осуществляемой СМИ, как правило, не выражают устремлений всего населения страны или союза стран. Чем в большей степени идеалы и программы учитывают интересы самых разных социальных страт, чем более они широкие и гибкие, тем больше шансов, что предлагаемый «позитивный образ будущего» будет действительно воспри- нят как вдохновляющая цель и ценность. Однако надо отдавать себе отчёт в том, что реальная ситуация связана с полемикой, и порой непримиримой, различных представлений о «лучшем будущем».
В этом смысле мы опять-таки затрудняемся солидаризироваться с мнением И. В. Дёмина, который отвергает всякий социальный идеал, который создан из перспективы будущего (прогрессистский) и по- нят им как сугубо абстрактный и надуманный, а реалистическими и обоснованными выступают только консервативные идеалы. Автор пишет: «Непреходящее значение в оптике консервативного миропонимания может иметь только исконное, изначальное. Возвращение к началу, истокам, изначальным смыслам, изначальному предназначению – таков ведущий и глубинный лейтмотив консервативной мысли как таковой, независимо от её конкретной специфики. Вот почему консервативный проект представляет собой проект реконструкции, реставрации, реактуализации. Принципиальное значение для консервативного стиля мышления имеет отождествление изначального с подлинным, аутентичным» [4, с. 400].
Однако стоит задать вопрос: а чьи, собственно, «консервативные» социальные идеалы мы хотим реанимировать и проецировать в будущее как «повторение прошлого»? Раннебуржуазные? Феодальные? Для всех ли они хороши? Не потому ли разразилась революция в 1917 году, что воплощение прежних идеалов стало невозможным и невостребованным? Видимо, апеллирование к традиционности тоже требует вдумчивого анализа того, идеалы каких канувших в прошлое классов и страт надо актуализировать, а каких – ни в коем случае. «Феодально-байское» прошлое России далеко не во всём выступает ценностью и образцом, тем более что и сами прежние социальные группы исчезли в силу изменившейся экономики. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, «унесённые ветром», как правило, не возвращаются, если общество не деградирует до предыдущей стадии развития. В этом смысле и советские коммунистические идеалы, в огромной степени и сейчас отвечающие интересам большинства людей, не могут оставаться точно такими же, каки- ми они виделись в ХХ веке. Ныне они тоже составляют один из видов традиции, потому «консервативно-прогрессивны». Консервативны, так как черпаются из прошлого, где уже служили базой для воплощения социальных планов и программ, а прогрессивны потому, что выливаются в гуманистические проекты, которым лишь предстоит осуществиться.
Социокультурными идеалами всегда становятся результаты понимания и истолкования тех или иных реальных тенденций , которые актуально присутствуют в текущей истории. Эти оценочные интерпретации превращаются в ценностную основу идеала-концепта, призванного быть мощным мотиватором практического поведения конкретных групп, то есть идеалы, пусть даже по-постмодернистки прагматизиро-ванные и многоплановые, строятся на базе прежде всего сегодняшних, реально присутствующих интересов , улавливающих вектор социального движения. Их интенция – это интенция движения вперёд, даже если самим идеологам кажется, что они «тяготеют к прошлому» и стремятся воспроизводить образчики минувшего. «Позитивный образ будущего» создаётся здесь и сейчас, отражая чаяния ныне живущих , весьма разных, нередко противоборствующих сил, оттого это не один идеал, а идеалы . Их может быть много, и они пребывают в идейной схватке: так, идеалы финансовой элиты, политического олигархата, среднего класса и трудящихся масс, занятых как умственным, так и физическим трудом, могут отнюдь не совпадать друг с другом. И все они заданы именно текущей ситуацией.
Конечно, философы, идеологи, литераторы, участвующие в создании целевых образов, могут наследовать какие-то моменты ориентиров прошлого, будь то собор- ность, всестороннее развитие человека или конкретный облик социальной справедливости. Однако они их не просто «реактуа-лизируют», а полностью переосмысливают, помещая в новые исторические контексты и подвергая испытанию и закалке в новых исторических условиях, в новых интеллектуальных и духовных схватках, в основе которых – животрепещущий интерес.
Ситуация «борьбы идеалов-концептов» осуществляется ныне в глобальном масштабе, на международном уровне, не оставаясь достоянием исключительно одной страны или одного региона. Для современной России очень важно понять, какие идеалы, задающие путь к будущему, мы видим в качестве определяющих. Пока новая российская идеология не создана, и страна в каком-то смысле идейно блуждает, ибо «левая идея» всё ещё остаётся не в чести, в то время как агрессивный либеральный подход в духе англо-саксонской или американской модели совершенно очевидно оказался неприменим в России, так как не соответствует ни геоэкономическим условиям, ни менталитету. Отсутствие социального консенсуса, стремительность изменений, переформулирующих границы классов и страт, открывают путь к манипуляции массовым сознанием со стороны крупных корпораций и медийно-финансовых групп, которые имеют возможность навязывать фальшивые и ложные социальные идеалы, то есть те, которые не отвечают ни наличным интересам людей, ни объективному ходу событий. Хочется верить, что возможен и возникнет некий «общественный договор», который позволит России выступать не только как становой хребет «русского мира», но и как страна, задающая действительно гуманистический и в то же время реалистический образ будущего, способный стать основой практического тренда.
Позитивный образ будущего и общественное настроение
Необходимо сказать хотя бы несколько слов о связи образов будущего с обществен- ным настроением, которое представляет собой подвижный эмоциональный уровень духовно-душевной жизни общества и культуры. Как отмечает политолог А. А. Галкин, «говоря об общественном сознании, мы, как правило, имеем в виду многослойную, складывающуюся веками, иногда логично выстроенную, но чаще всего противоречивую пирамиду ценностных предпочтений, оценок и установок, свойственных множеству индивидов, принадлежащих к конкретным цивилизациям или нациям. Непосредственно же при анализе политических реалий мы имеем дело с общественными настроениями, составляющими тончайший поверхностный слой этого сознания. Они отражают его структуру, но не абсолютно и не прямо, а опосредованно, поскольку в высшей степени подвержены конъюнктурным воздействиям и быстро меняются, следуя переменам в объективной обстановке» [2]. Совершенно очевидно, что современным массовым искусством (литературой, кино), а также электронными СМИ, определяющими «повестку дня», активно формируются, прежде всего, негативные настроения в отношении будущего: критические, панические, насыщенные разного рода страхами и недовольством. Следуя своим финансовым интересам, информационные холдинги раздувают мрачные предчувствия и состояние всеобщего недоверия, стяжают прибыль на эксплуатации отрицательных эмоций. Это тем более удобно, потому что позитивные образы будущего могут не реализоваться, а уж проблем в грядущем всегда будет достаточно. Однако не менее, а даже более важным фак- тором, фундаментальным основанием позитивной либо негативной настроенности в отношении будущего выступает наличное экономическое, бытовое и политическое состояние людей.
Будущее видится эмоционально позитивным, когда есть хорошее, благополучное, стабильное настоящее. Так, сегодняшняя обеспеченность и удовлетворённость в отношении основных потребностей располагает к проекции наличной удовлетворённости в будущее. Это спокойный, эволюционный путь. Конечно, и здесь возможны сомнения и опасения. Это хорошо знают психологи: «Чувства существуют не изолировано друг от друга, они сливаются в чувственный тон. Заметим, что позитивные и негативные чувства могут одновременно наполнять общественное настроение (в актуальный момент, в настоящее время). Кроме того, отношения к разным социальным явлениям, объектам, сторонам жизни общества могут быть наполнены у многих членов общества одними и теми же или сходными чувствами» [9]. И всё-таки материальная состоятельность, актуальное ощущение безопасности, доверие к власти, знание из опыта, что любые вопросы решаются справедливо, даёт также уверенность в грядущем, формирует добрые чувства по отношению к завтрашнему дню, поддерживает надежду на то, что трудности и препятствия будут преодолены. Соответственно, любое смятение, характерное для социума, создаёт пугающий образ будущего, экстраполируя проблемы в завтра. Если же общество и его члены благополучны, то позитивный образ будущего органично вырастает из настоящего, между ними нет противоречия, нет разрыва, ничто не нуждается в категорической отмене и нет нужды искать врагов и виновных. В условиях стабильности и справедливости настоящее и будущее не идут в рукопашную, они создают единую темпоральную линию. Надежды на лучшее здесь естественны.
Парадоксальным образом картина позитивного будущего может складываться и при очень скверном, кризисном состоянии общества. Но тогда речь идёт о полной отмене «прежнего мира» и сотворении нового. Это предполагает конфронтацию, разрыв и формирование боевых установок: сокрушить, чтобы создать. Возникают «революционные настроения», и основная масса населения соглашается на полную отмену наличного положения дел, полагая, что «хуже уже не будет». Гнев, возмущение, ярость в отношении виновных в упадке как бы «с очевидностью» придают будущему постреволюционному миру статус более благополучного, потенциально – более справедливого. Однако если не брать в расчёт короткие стихийные всплески мстительного разру-шительства, то картина лучшего будущего рисуется в революционные времена всё-та-ки усилиями идеологов, надежды масс раздуваются и подогреваются. Идеал-концепт, воплощаемый в разных духовно-практических формах (стихи, музыка, песни, речевки, лозунги, демонстрации и т.д.), ориентирует восставших на то, что светлое будущее станет противоположностью мрачного настоящего. Именно противоположностью. Если взглянуть на работы раннего К. Маркса, то мы увидим, что в первый период своего творчества, ещё не основываясь на анализе экономики, он строит коммунистический идеал «от противного», чисто ценностным способом, видя будущее лишённым частной собственности и бесклассовым, освобождённым от любых форм отчуждения. И именно этот образ становится потом знаменем революционной борьбы и соответ- ствующих настроений – настроений классовой войны, трудового энтузиазма, самопожертвования – ради прекрасного будущего, пусть не для нас, так для потомков.
Завершая разговор о настроениях позитивного ожидания и надежды, мы должны отметить, что и в первом, и во втором случае эти надежды могут быть обмануты. Ничего не поделаешь – любая надежда всегда содержит долю риска. Но, как мы уже отметили, сокрытость будущего и связанный с его образами риск не отменяют сегодняш- него смысла и сегодняшних практических дел, которые невозможны без позитивного представления о будущем.
Подводя итог сказанному , можно выделить следующие моменты.
Социокультурный идеал-концепт, создаваемый идеологами, выступает ядром и для художественно-эссеистического выражения желанного будущего, и для создания оптимистических общественных настроений. Он находится в основе всех иных стратегий, обращённых к чувствам и переживаниям.
Этот идеал эффективен, когда он учи- тывает надежды и чаяния максимально широкого круга людей, способен предложить в будущем гармонизацию интересов тех страт и классов, которые объективно находятся на сегодняшний день в оппозиции и пока не видят актуальных возможностей примирения интересов, формируя разные идеалы будущего.
Социальные идеалы прошлого долж- ны претерпевать при попытке их применения сегодня фундаментальную трансформацию, соответствующую историческому контексту.
Благополучие людей в текущий период, повышение уровня жизни населения и достижение социальной стабильности выступают залогом успешного создания позитивных образов будущего, реализация которых будет тогда мирной и органичной, исключающей революционные исторические разрывы и столкновения.
Список литературы Образ "светлого будущего": проблема социокультурных стратегий
- Апресян Р. Г. Идеал // Новая философская энциклопедия / Институт философии Российской академии наук, Национальный общественно-научный фонд; научно-редакционный совет: В. С. Степин [и др.]. Москва: Мысль, 2001. Том 2: Е-М.
- Галкин А. А. Общественные настроения и политическое поведение: некоторые тенденции современного развития // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2014. № 2 (73). С. 6-20.
- Давидович В. Е. Теория идеала. Ростов-на-Дону: Издательство РГУ, 1983. 184 с.
- Дёмин И. В. Образ будущего в оптике консерватизма и прогрессизма // Третьи Лемовские чтения: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием памяти Станислава Лема, 24-26 марта 2016 года. Самара: Издательство Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, 2016. С. 377-403.
- Ефремов И. А. Час Быка. Москва: АСТ, 2018. 950 с.
- Золотухина-Аболина Е. В. Рациональное и ценностное (проблемы регуляции сознания). Ростов-на-Дону: Издательство РГУ, 1988. 144 с.
- Ильенков Э. Об идолах и идеалах. Киев: Час-Крок, 2006. 312 с.
- Константинова Л. В. Общественный идеал в эпоху Постмодерна: ракурсы социальной политики // Власть. 2014. № 4. С. 90-95.
- Куликов Л. В. Общественное сознание и общественное настроение // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2008. Выпуск 2. С. 33-39.
- Маслоу А. Психология бытия. Москва; Киев: Рефл-бук; Ваклер, 1997. 300 с.