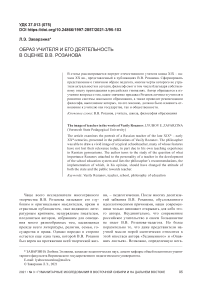Образ учителя и его деятельность в оценке В.В. Розанова
Автор: Заварзина Любовь Эллиевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Василий Розанов: Мыслить уединенное. К 165-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 3 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается портрет отечественного учителя конца XIX - начала XX вв., представленный в публикациях В.В. Розанова. Сформировать представление о типичном образе педагога, многие черты которого не утратили актуальности и сегодня, философ смог в том числе благодаря собственному опыту преподавания в российских гимназиях. Автор обращается к изучению вопроса о том, какое значение придавал Розанов личности учителя в развитии системы школьного образования, а также приводит рекомендации философа, выполнение которых, по его мнению, должно было изменить отношение к учителю как государства, так и общественности.
В.в. розанов, учитель, школа, философия образования
Короткий адрес: https://sciup.org/170191737
IDR: 170191737 | УДК: 37.013 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-3/95-103
Текст научной статьи Образ учителя и его деятельность в оценке В.В. Розанова
Чаще всего исследователи многогранного творчества В.В. Розанова называют его глубоким и оригинальным мыслителем, ярким и страстным публицистом, «все видящим» литературным критиком, незаурядным писателем, плодовитым автором, избравшим для освещения много разнообразных тем, касающихся прежде всего литературы, религии, семьи, государства и права. Однако нередко в стороне остается еще одна тема, которой В.В. Розанов был верен на протяжении всей творческой жиз- ни, – педагогическая. После многих десятилетий забвения В.В. Розанова, обусловленного идеологическими причинами, наши современники только начинают открывать для себя этого автора. Неудивительно, что современное российское учительство в своем большинстве не знает В.В. Розанова-педагога. Но более поразительно то, что даже представители научной мысли порой скептически относятся к этой ипостаси автора «Уединенного» и «Опавших листьев». Возможно, определенную нега- тивную роль в этом сыграла книга «Розанов» А.Н. Николюкина, крупнейшего исследователя жизни и творчества русского философа, главного редактора «Розановской энциклопедии», изданная в серии «ЖЗЛ»: в ней совершенно не освещена педагогическая деятельность Розанова и не проанализированы его педагогические взгляды [9]. Вместе с тем в творческом наследии В.В. Розанова вопросы образования, педагогики, целей воспитания, взаимоотношений семьи и школы и многие другие, относящиеся в широком плане к педагогическим, занимают заметное место.
Такое внимание к проблемам воспитания и образования объясняется прежде всего фактами биографии мыслителя. Как известно, интеллектуальная история немыслима без биографического анализа. В.В. Розанов, оставшись в 14 лет круглым сиротой, воспитывался в семье старшего брата Николая, работавшего учителем сначала в Симбирской, затем Нижегородской гимназии, а впоследствии возглавлявшего прогимназию в Белом Смоленской губернии и гимназию в Вязьме. О нем с искренней благодарностью вспоминали как гимназисты, так и коллеги. В.В. Розанов после смерти брата писал, что всегда стремился определить «источник его замечательных успехов как педагога». Этим источником, полагал мыслитель, были «внутренняя правота, светлая вера в будущее, доверие, уважение к настоящему» [13, с. 321]. В красноречивом отзыве чиновника казначейства г. Белого содержится справедливая оценка деятельности директора прогимназии Николая Васильевича Розанова, который «не заставил плакать ни одного родителя, не погубил судьбы ни одного ученика», а за 13 лет его службы «не было в прогимназии ни одного случая исключения» [13, с. 321].
Таким образом, еще подростком, в период обостренной восприимчивости к любой информации, В.В. Розанов был свидетелем, а может быть, и участником профессиональных разговоров, которые, конечно же, велись в семье брата. Темами бесед, разумеется, были проблемы отечественного образования, в частности, Симбирской и Нижегородской гимназий, ее учителей и учащихся. С другой стороны, взгляды брата, его деятельность и в должности учителя, и в должности руководителя учебных заведений явились для Василия Розанова позитивным примером замечательного педагога, представлявшего немногочисленную дружину «русских учителей, в руках которой просвещение подрастающих поколений» [13, с. 323].
Не следует забывать и о двенадцатилетнем учительском опыте, приобретенном В.В. Розановым в учебных заведениях Брянска, Ельца, Белого Смоленской губернии, где он имел возможность наблюдать деятельность школы изнутри, делать «зарисовки» учителей, чтобы впоследствии представить российскому образованному обществу типичный портрет отечественного учителя. Мыслитель, в частности, отмечал, что ему пришлось жить среди молодых и старых учителей, «с различным прошлым, с неодинаковым темпераментом и складом ума и характера», и поэтому он имеет право высказывать свое мнение о российском учителе в целом. Его размышления, посвященные учителю, специфике его труда, взаимоотношениям с администрацией школы, учащимися, их родителями, обществом, содержатся в статьях «Афоризмы и наблюдения», «Педагогические трафаретки», «Беспочвенность русской школы» и многих других. Не лишены раздумий автора над этими вопросами и его книги «Уединенное», «Опавшие листья», «Русский Нил».
В.В. Розанов высоко оценивал деятельность учителя, он справедливо полагал, что «школа – это только и всецело учитель; учитель – во-первых, учитель – во-вторых, учитель – в-третьих, и только в-четвертых еще что-нибудь» [13, с. 792]. Однако, несмотря на столь важную роль, которую учитель играет как в школе, так и в целом в образовании будущих поколений, его значимость недооценивается государством. В результате, заключал В.В. Розанов, «в деле педагогики мы идем гигантскими шагами назад. Цветет формализм – тускнеет молодежь в школе; развивается система – суживается, сморщивается до уродства, до “нет” учитель…» [13, с. 821].
Труд учителя чрезвычайно сложен, специфичен, его субъект испытывает не физическую усталость, а психическое изнеможение (заметим, современные психологи называют это эмоциональным выгоранием). Неслучайно сроки выслуги пенсии в Министерстве народного просвещения равнялись 25 годам работы учителя, служащим же других министерств и ведомств следовало иметь 35-летний стаж для получения пенсии. Кроме того, В.В. Розанова удивил тот факт, что у учителя, как кожа и мускулы у рабочего на фосфорной фабрике, «ранее всего атрофируется то именно, чем он обращен к предмету труда своего – душа, ум, целый психический строй», то, без чего он не может выполнять свои профессиональные задачи: «оказывать беспрерывное, ежеминутное и самое утонченное внимание к нуждам сотен и сотен образующихся юных существ» [13, с. 738]. Хотя у представителей других профессий сохраняются здоровыми и деятельными именно те органы, которые наиболее важны для данного вида труда: у охотника – ноги и глаза, у мыслителя – ум.
В.В. Розанов констатировал, что в стране есть общества, оказывающие помощь заключенным в тюрьмах, животным, но нет никого, кто бы проявил заботу об учителе. Между тем представители этой профессии более других образованны, гуманны, благожелательны, но преждевременно искалечены, поскольку уже на 12-м, реже на 16-м – 18-м году своей деятельности становятся инвалидами, нуждающимися в заботе о себе. Общество часто с презрением относится к этим несчастным людям, не имеющим никаких внешних атрибутов страдания, «кроме одного, впрочем, но зато общего, лежащего уже на всех: выражения их лица, их движений, манеры держать себя и говорить» [13, с. 738]. Понурая фигура учителя, с рассеянным взглядом, не стремящаяся радостно приблизиться к обществу, всеми узнаваема. «Учитель для всех странен, всегда и для всех чужд. Живой, беззаботный смех – вот чего никогда, ни в каком состоянии вы не услышите от учителя <…> Он все может изложить, но никогда – рассказать анекдот. Никогда и никого он не заразит весельем, и даже не оживит, разве – займет несколько. Разговор, если только он не с человеком наедине, а среди общества, уже пугает его самою своею возможностью. По-видимому, он может только научать или выслушивать, и все остальные его способности, умения, – атрофированы» [13, с. 738]. Однако эта характеристика учителя далеко не полная. В.В. Розанов писал, что в огромном большинстве учителя – люди «с чрезвычайно тонким душевным развитием, с талантами, с позывами к научному мышлению и изучению и, что несравненно важнее этого, – душевно чистые». Среди них, особенно заброшенных в глухую провинцию, можно встретить тех, кто начинал серьезно заниматься музыкой, живописью, переводами. В случайном, уединенном разговоре с учителем можно заметить «бездну еще не замерзшего интереса к жизни, далекой, чужой, ему ненужной жизни»; иной раз случайно можно узнать о помощи, которую учитель оказывал бедному ученику или его семье. И вот эти люди, заключал Розанов, интересные, душевные порознь, в совокупной своей деятельности являются в таких чертах, что ненавидимы учениками, городом; вредны семье, церкви; но даже более, «нежели ненавидимы, – презираемы всюду и всегда, и это знают» [13, с. 739].
Учитель – этот мягкий, высокообразованный человек, на уроке же бывает «угрюм, рассеян, несправедлив, жесток». Чем обусловлены эти метаморфозы? В.В. Розанов полагал, что причины этого поразительного явления скрыты в сущности учительского труда. Вот некоторые аспекты, выделенные мыслителем. Во-первых, учителю нужно не только изложить новый учебный материал, но и суметь заинтересовать им гимназистов, «а в неспособности, рассеянности, тысячи недостатков со стороны слушающих, – ответить на каждый из этих недостатков соответствующим способом воздействия, который так или иначе, но непременно направил бы их внимание на нужное» [13, с. 739]. Во-вторых, учителю приходится излагать один и тот же учебный материал из года в год, да еще бывает несколько раз в день, что заставляет педагога искать другие способы изложения урока, иную манеру повествования, но такую, чтобы не показаться смешным или неуместным. Каждый учебный день – это одна двухсотая часть учебного года, похожего один на другой, мрачно описан Розановым: «Эти дроби – на фоне оставленной, никогда почти не видимой семьи, падающих сил, возрастающей с детьми денежной нужды, уже долголетнего и все, кажется, напрасного заискивания перед начальником, наконец – отчуждения от всех людей, сознания ненужности делаемого дела» [13, с. 740].
Однако урок, даваемый в классе, – это не единственная забота учителя «и даже не самая настоятельная»; даже если он проведен плохо, это не ведет за собой какого-либо немедленного наказания. Но не составленная вовремя ведомость – это неприятность, которую ничем оправдать нельзя; также нельзя не обойти хотя бы раз в месяц ученические квартиры, выполнить обязательное количество классных работ, выписать в кондуитскую книгу все шалости учащихся, подвергнув их статистике. И еще много других обязанностей, которые должен выполнить учитель. Но есть и такие, которые внешне никак не проявляются, ведь никто не может за- глянуть в растревоженную душу учителя, когда, как ему кажется, по его вине был исключен ученик, способный, любознательный, любимый, не выдержавший ревизии гимназии (по разным причинам, часто формальным, не справившийся с проверочной работой). Обилие обязанностей, тесное взаимодействие с формирующимися личностями, обусловили заключение, к которому пришел В.В. Розанов: «Жестокий, глупый, несправедливый, он же и умный, изболевший в сердце человек – вот учитель» [13, с. 741].
Министерство народного просвещения не осознавало специфики учительского труда, либо приравнивая его к деятельности чиновника, либо видя в нем «ремесленника на ремесле». Это узкое понимание администрацией деятельности учителя стало особенно заметно в ходе гимназической реформы 1870-х гг., когда при повсеместном – и в прогимназиях, и в гимназиях – введении преподавания древних языков для этих целей из-за границы (преимущественно из Австро-Венгрии) приглашались учителя, при этом выпускники российских духовных семинарий и академий к преподаванию не привлекались. Критерием отбора учителей для министерских чиновников являлась вовсе не личность педагога и не умение преподавать, а документ, свидетельствующий о его профессиональном знании древних языков: этого было достаточно, чтобы на 25 лет поручить учителю-иностранцу обучать гимназистов где-нибудь в Калуге или Орле. «Такт его или бестактность в обращении с учениками, талант или неспособность к преподаванию» – все это не беспокоило министерских чиновников, даже «самая мысль об этом не приходила на ум, и, в общем, она до сих пор отсутствует в учебном мире» [13, с. 766]. К сожалению, констатировал Розанов, учителя гимназий не выбираются, а назначаются; к преподаванию они нигде и никогда не готовились, их преподавательских способностей никто не испытывал, да они, как это ни парадоксально, и не нужны. «Наблюдение, которому учитель потом подвергается, есть более административное, чем педагогическое». Главное – исправно относиться к службе: не пропускать уроков, не являться в гимназию в нетрезвом виде. Выполнение этих условий гарантирует ему сохранение должности, даже если его педагогические способности будут нулевыми или отрицательными.
В.В. Розанов был категорически против пренебрежения личностью учителя, справедливо полагая, что «он-то и есть центр и душа школы, единственный ее реальный и значащий творец» [13, с. 781]. Однако «рыцари классицизма», как иронично назвал М.Н. Каткова и его друга П.М. Леонтьева П.Ф. Каптерев, отрицали важное воспитательное значение личности учителя. В.В. Розанов, опираясь на статью М.Н. Каткова, познакомил читателей с мнением этого влиятельного человека, касающимся такого педагогически значимого понятия, как личность учителя. Издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» проанализировал программу Министерства народного просвещения по русской словесности для гимназий и сравнил ее с программой немецкой словесности для прусских гимназий. Он отметил, что количество часов, отводимых на изучение немецкой словесности, меньше, чем на русскую: надо срочно пересмотреть программу по русской словесности и поступить по-немецки, т.е. уменьшить количество часов, отводимых на изучение русской литературы. М.Н. Катков также заметил, что немецкие гимназисты учатся «правильному употреблению своего языка», а наши гимназисты «изучают личность своего учителя» [13, с. 782]. Публицист и издатель предлагал не только сократить количество часов на изучение русской словесности, но и вообще упразднить такой учебный предмет, как история. «Эти излишние уроки, – писал Катков, – суть такая же трата времени, как и излишние уроки русской словесности. Эти излишние уроки будут раскрывать для созерцания учащихся не какой-либо предмет, а собственную личность преподавателя, которая, без сомнения, не входит в план гимназического учения» [13, с. 783].
В.В. Розанов был глубоко возмущен такой установкой влиятельного консерватора, в статьях которого и, видимо, в руководимом им московском лицее Цесаревича Николая «личность учителя особенно усиленно пренебрежена. Работает собственно “программа”, работает “устав”». Такое же отношение к личности учителя, педагога вообще было свойственно и министру народного просвещения графу Д.А. Толстому [13, с. 783].
Консервативный характер гимназической реформы 1870-х гг. привел к «потере лица» учителя, который должен был действовать строго по инструкции. Он не мог «ни ступить в сторону, ни ступить вперед или назад». При такой организации образования учителя «через 5–8 лет службы становились мумиями», и все это по- тому, что «в учителе не признавалась личность, свой характер, некоторое своеобразие взглядов, приемов, убеждений, манер» [12, с. 118].
О том, какую важную роль играет личность учителя в становлении личности ученика, рассказал В.В. Розанов в «Русском Ниле». Иллюстрацией послужил пример из жизни автора. Светлой личностью учителя оказался не гимназический педагог, а, говоря современным языком, репетитор, которого попросили заниматься с практически отстающим подростком Васей Розановым. Вспоминая о нем, мыслитель с уважением называл имя учителя полностью: Николай Алексеевич Николаев, ученик последнего класса гимназии. «Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. <…> и я просто стал читать то же, что он», – писал Розанов [14, с. 555]. Николаев, как вспоминал автор «Русского Нила», особенно ничему не учил, не наставлял ученика, разве в первые месяцы занятий, но сумел возбудить в нем жажду к знаниям «милыми, прекрасными, охотными разговорами-рассуждениями-разъ-яснениями» [14, с. 556]. Сам учитель, чрезвычайно много читая, стремился поделиться новыми знаниями с подростком. Так благодаря субъект-субъектным отношениям между ними сложилось педагогическое взаимодействие. Николаев не мыслил свою жизнь без самообразования – необходимого качества хорошего учителя, и это уважение к знанию, любовь к чтению передались и ученику.
Учитель, продолжал свои размышления В.В. Розанов, не должен воспринимать свою педагогическую деятельность как «четвертьвековое мученичество и мучительство». Поэтому надо учитывать индивидуальные особенности будущего педагога, его интересы и пристрастия. Однако в действительности все обстояло иначе. На повсеместные сетования о том, что нет искусных учителей в гимназиях, Министерство народного просвещения реагировало так: лучшие кандидаты университетов направлялись в гимназии «в уверенности, что они будут и наилучшими учителями в элементарном и среднем обучении». «Печальное, грубое заблуждение, выросшее на почве администрации, которая все решает по дипломам, обо всем заключает по занумерованным бумагам», – эмоционально заявлял В.В. Розанов и разъяснял, почему такой взгляд является ошибочным [13, с. 661]. Труд учителя отличается от труда ученого. Две психические черты, «которые, в высшей степени способствуя научности, совершенно препятствуют педагогичности: это – быстрота ума, стремительность соображения и слишком живая впечатлительность». Такие качества необходимы ученому, но плохи в классе: учитель будет торопить учеников, давать объяснения, не учитывающие их возраст, будет раздражаться медленностью «среднего соображения», для большинства гимназистов он станет «несносным, бесполезным и, в конце концов, этою массою ненавидимым учителем». Хорошими учителями, по мнению В.В. Розанова, являются не лучшие, «но именно более вялые питомцы университетов, тихие бегуны на всех поприщах и во всех задачах». Они терпеливы, методичны в объяснениях, полезны школьникам и чтимы ими [13, с. 661]. Таким образом, резюмировал мыслитель, повторяя свою мысль уже в другой статье, «“ученость” и “педагогичность” чаще обратно пропорциональны» [13, с. 801].
Чтобы в российских гимназиях появились хорошие учителя, следует, как полагал В.В. Розанов, изменить систему формирования воспитателей будущих поколений. Пока же учитель – «человек и без того очень общего образования, долгого учения и, следовательно, очень отвлеченных интересов», он «обычно рожден в одном городе, гимназию прошел – в другом, университет – в третьем, и службу проходит в четвертом, пятом, шестом. Он – человек без корней ; в сущности – у него нет родины , и, следовательно, – родного » [13, с. 707]. У него нет ничего постоянного, лишь отношения временного товарищества. Он, в сущности, коммивояжер просвещения: «никому он не нужен, всем нужно то, что он несет ; и, если он умен, если он человек с сердцем, – что бывает часто, – он становится почти врагом образования, которое так много у него отняло и так мало ему дало» [13, с. 708]. Он приобретет те негативные качества, о которых шла речь выше; половина учителей, по разным причинам, не обзаводится семьей. В «Афоризмах и наблюдениях» В.В. Розанов употребил только черные краски, описывая жизнь учителя, дожившего до вожделенной минуты двадцатипятилетнего служения народному просвещению. К сожалению, счастья это ему не принесло, поскольку он уже «не нуждается ни в чем более, кроме сиделки, компресса на голову, склянки с микстурой, – которые недолго еще будут облегчать последние его страдания» [13, с. 708].
С таким положением нельзя мириться. По мнению В.В. Розанова, школа должна само- пополняться учителями. «Учитель – местный житель, любимый питомец школы, ею высмотренный, с детства наблюдаемый, испытанный, посланный доучиваться в университет» [13, с. 708]. Его служебное перемещение недопустимо (перевод учителей из одной гимназии в другую был обусловлен плохо исполняемыми ими обязанностями, в связи с чем справедлив вопрос Розанова: Если учитель «стал дурным, зачем наказывать им другой город?»).
В обществе и государстве должен измениться взгляд на учителя, эта профессия должна стать престижной и востребованной. Первый шаг в этом направлении – государственная забота об учителе. Низкая заработная плата отгоняет от школ активных, сильных людей к другим ведомствам, «свободнее поставленным и лучше обеспечивающим». Кроме увеличения заработной платы учителя, необходимо уменьшить количество недельных учебных часов, проводимых педагогом, количество учащихся в классе. В.В. Розанова поражала недальновидность власти, проявляющаяся в непонимании того, что в основе прогрессивного развития страны «лежит свет знания». Он видел, что и общественное восприятие учителя до сих пор остается чисто языческим, грубо римским: «“учитель” – это немножко “раб”, конечно, “ученый” раб и все-таки не смеющий возвыситься до сравнения в положении с отцом детей, к которым он приставлен, и который есть для него немножко “господин”» [13, с. 806]. После того, как материальное положение учителя будет улучшено, его статус должен быть поднят и нравственно – «в смысле возвращения ему служебного пиетета». «Пора нашему просвещению снять “зрак раба”, который оно носит на себе, и стать в уровень, плечом к плечу с другими ведомствами» [13, с. 807]. Словом, нужно сделать все для того, чтобы «воскресить учителя в школе», и это будет «альфа воскресения самой школы» [13, с. 821].
Конечно, и сам учитель должен понимать значимость своей профессиональной деятельности, осознавать специфику своего труда, при котором его духовное развитие играет важную роль. Педагогу следует постоянно заниматься самообразованием, расширять свой кругозор, чего нельзя достичь без чтения. В.В. Розанов не мыслил своей жизни без чтения, литературу он считал главной составляющей духовной культуры народа. В «Опавших листьях» он, в частности, писал: «Вся Греция и Рим питались только 100
Список литературы Образ учителя и его деятельность в оценке В.В. Розанова
- Белозерцев Е.П., Крикунов А.Е., Павленко А.И. Школа и семья в философско-педагогической публицистике В.В. Розанова. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2002.
- Заварзина Л.Э. Педагогика // Розановская энциклопедия / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 1810-1814.
- Заварзина Л.Э. Учитель // Розановская энциклопедия / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 2239-2242.
- Заварзина Л.Э. Школа // Розановская энциклопедия / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. С. 2318-2322.
- Заварзина Л.Э. Педагогические взгляды Розанова // Наследие В.В. Розанова и современность. Материалы Международной научной конференции. Москва. 29-31 мая 2006 г. М., 2009. С. 535-545.
- Зорина Г.В. «Кризис российской школы» в педагогических работах Розанова // Наследие В.В. Розанова и современность. Материалы Международной научной конференции. Москва. 29-31 мая 2006 г. М., 2009. С. 546-549.
- Крикунов А.Е. Образовательная концепция В.В. Розанова (историко-педагогический анализ): автореф. дис. ... канд. пед. н. Елец, 1999.
- Ломоносов А.В., Ватель-Гедройц М.Н. Гедройц Сергей // Розановская энциклопедия / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. С.215-218.
- Николюкин А.Н. Розанов. М.: Молодая гвардия, 2001.
- Панина Л.Ю. Воспитание человека культуры в философско-педагогическом наследии B.В. Розанова: автореф. дис. ... канд. пед. н. Воронеж, 2012.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 13. Литературные изгнанники: Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев. М.: Республика, 2001.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 15. Русская государственность и общество (Статьи 1906-1907 гг.). М.: Республика, 2003.
- Розанов В.В. Собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 28. Эстетическое понимание истории (Статьи и очерки 1889-1897 гг.). Сумерки просвещения. М.; СПб.: Республика; Росток, 2009.
- Розанов В.В. Сумерки просвещения. М.: Педагогика, 1990.
- Розанов В.В. Уединенное. М.: Политиздат, 1990.
- Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.: Изд-во Московского ун-та, 1983.
- Фатеев В.А. Пришвин Михаил Михайлович // Розановская энциклопедия / Под ред. А.Н. Николюкина. М.: РОССПЭН, 2008. C. 737-742.