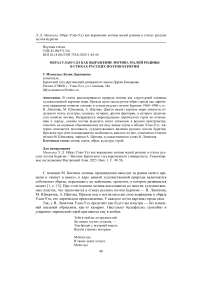Образ Улан-Удэ как выражение мотива малой родины в стихах русских поэтов Бурятии
Автор: Мункуева Л.Д.
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается природа мотива как структурной единицы художественной картины мира. Прежде всего исследуется образ города как лирическое выражение понятия «мотив» в стихах русских поэтов Бурятии 1960-1990-х гг.: В. Липатова, М. Шиханова, А. Щитова. Дается анализ картине мира личности отдельного поэта, культуре, социуму, истории, другим факторам, в которых заключается понятие мотива. Раскрывается мироощущение лирического героя по отношению к городу, умение поэтов выделить нечто затаенное в родном пространстве, отметить не видимые обыкновенному взгляду новые черты в облике Улан-Удэ. Автором отмечается пытливость художественного видения русских поэтов Бурятии. При всем при этом подчеркивается особенность каждого из них, отмечается отличие поэзии М. Шиханова, лирики А. Щитова, художественного слова В. Липатова.
Мотив, город, образ, культура, герой
Короткий адрес: https://sciup.org/148331410
IDR: 148331410 | УДК: 82.09(571.54) | DOI: 10.18101/2305-753X-2025-1-49-56
Текст научной статьи Образ Улан-Удэ как выражение мотива малой родины в стихах русских поэтов Бурятии
Мункуева Л. Д. Образ Улан-Удэ как выражение мотива малой родины в стихах русских поэтов Бурятии // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2025. Вып. 1. С. 49–56.
С позиции М. Бахтина мотивы произведения выходят за рамки своего времени и «живут в веках», в ядро данной художественной природы включаются собственно образы, персонажи с их действами, хронотоп, в котором развивается сюжет [1, с. 15]. При этом понятие мотива воплощается во многих художественных пластах, что заключается в стихах русских поэтов Бурятии — В. Липатова, М. Шиханова, А. Щитова. Прежде всего мотив находит свое выражение в образе Улан-Удэ, его лирическом представлении. У каждого поэта картина города своя.
Так, у В. Липатова Улан-Удэ предстает как будто вы изнутри — без излишней внешней обрисовки, как-то камерно. Настолько беспафосно, спокойно и умеренно лирический герой признается ему в любви:
Тебя я люблю до предместий. До самых глухих уголков, — Там бродят с историей вместе Ватаги степных ветерков.
Мой взгляд
В твоих далях утонет, Мой слух
Словит рек разговор, Тебе ж так уютно в ладонях Сосново-березовых гор.
Твои переулки и парки, Порывы восторга в крови, — Мои дорогие подарки
Для памяти и для любви [2, с. 7].
Строки таких стихов в полной мере выражают мотив малой родины в образе родного города. Город близок лирическому герою, дорог по-настоящему, иначе зачем ему знать его до «предместий» и «самых глухих уголков». Чужому человеку это совершенно не нужно.
А М. Шиханов видит город через его известных людей, создающих ему особую ауру. Так, поэт посвящал стихи бурятскому художнику Буде Садыкову, народному художнику республики и оперному певцу, народному артисту СССР Лхасарану Линховоину. В стихотворении «Художнику Буде Садыкову» как такового образа героя нет, в лирическом представлении прежде всего проступают черты родного поэту города:
Слепые окна, изгородь из тына, за огородом темная тайга… Остался старый город на картинах, тобою сохраненный на века.
О прошлом не жалеют, если гулко захлестывает радостная новь.
Нам не пройтись по узким переулкам, как не вернуть угасшую любовь.
Иную даль открыли нам бульвары, иной для нас наметили рубеж… Цветет под доброй кистью город старый, храня тепло несбывшихся надежд.
Стареем мы, а город все моложе, ликует, словно неуемный внук. Ушли года составом, ну а все же в звучанье красок слышен перестук [7, с. 97–98] .
Можно определить, что главным для поэта был образ города, так узнаваем он лирическому герою в своих прежних, далеких от современности, исторических очертаниях. Однако видится он восприятием лирического героя прежде всего с картины художника. По тому, как герой рассматривает картину города, находит в нем не просто что-то знакомое, а родное («изгородь из тына», сам «старый город», «узкие переулки»), что связано с собственной жизнью, переживаниями, проступает облик самого художника. Это человек, наделенный «доброй кистью», видящий жизнь в ее перспективе и понимающий, что без прошлого нет пути в будущее.
В стихотворении происходит двойное художественное напластование: здесь и лирический герой, и образ художника сливаются в одно. Перед читателем предстает один образ человека, с философской грустью осознающего, что перемены, преображающие город, уносят в безвозвратное собственные чувства:
«угаснувшую любовь», «тепло несбывшихся надежд». Герой стремится предугадать, как изменят самого человека новые преобразования города с его возникающими бульварами. Наконец, герой по-настоящему чувствует «в звучанье красок» перестук летящих годов.
Можно определить главную идею стихотворения в том, что художник глубоко прочувствовал собрата по искусству, поскольку образ обновляющегося города приобретает черты человека сравнением «словно неуемный внук».
В другом стихотворении с образом Лхасарана Линховоина М. Шиханов ввергает читателя в мир оперного искусства. В Бурятии издавна любят монгольскую песню о потерявшемся в пустыне белом верблюжонке. Лхасаран Линхово-ин в каком-то смысле сделал ее своей визитной карточкой. Об этом и песня о белом верблюжонке, и стихотворение М. Шиханова:
Белый верблюжонок... Белый, как монгольский солончак. Улыбнутся люди: «Бедный! Не растет малыш никак!» Белый верблюжонок, белый. Потерял в пустыне мать и ступает, словно беглый — болью души донимать.
В Гоби вьюги лихо воют, Ливень в спину бьет бичом. Взял малышку Линховоин, вместе путь им нипочем! Чем же белый полюбился, друг-товарищ Лхасаран? Верблюжонку свет открылся до заморских дивных стран. Верблюжонка песнь лелеет, верблюжонок песне рад, выступает он, белея, как черемуховый сад! Белый верблюжонок, белый. Нынче нет с тобой певца, он ушел в свои пределы. только песне нет конца [7, с. 99-100].
В этом стихотворении проявилось и собственное переживание поэта о погибшем отце в боях на Халхин-Голе, трудное сиротское детство, и осознание бурятским народом Монголии как своей прародины, и судьба многих бурят, оказавшихся оторванными от родных историческими бурями: кто-то остался в Бурятии, а кого-то занесло в Монголию, Китай и даже в Австралию. В исполнении Л. Линховоина верблюжонок в стихотворении словно обретает отца, семью, что любовно, ласково выражается в слове «малышка». В образ певца концентрируется понятие отчего покровительства, защиты, помощи и заботы, что не испытал сам поэт в своей жизни. Оттого стихотворение проникновенно до глубин души.
В стихах А. Щитова горожане предстают намного прозаичнее, это обычные люди, но и они отмечаются лирическим героем, который убежал от них в горы:
…Там трамваи сейчас ползут, По швам разрезая город… А дым от костра так горек! Будет — я снова туда спущусь, Руки любому жать научусь, Сидеть с кем попало за пивом. Любовь от притворства не отличать. Молчать, когда надо вовсю кричать, Быть в мелочах счастливым… [8, с. 21].
Поэт как будто впервые задумывается о двойственности людей в городе. По всей видимости, горький дым высокогорной тайги, тишина пространства предположили героя к ясному, чистому осмыслению своего бытия в городе. Лирический герой удивляется своему поведению, хотя выносит себе суровое душевное порицание. Он осознает, что, спустившись в город, вновь будет таким же, как все: неестественным, притворным, безмолвным и, главное, что его тревожит, вновь «быть в мелочах счастливым». А ведь душа его не такая, она тянется к большому. Именно это он осознает, поднявшись на вершину гор, оказавшись едва ли не впервые на высоте своего духа.
Героя мучает городская суета, он страдает от стремительного темпа жизни:
У меня, дорогой, слишком времени мало, чтоб зайти к тебе в дом, посидеть, как бывало. чай попить, покурить, вспомнить наш институт.
Час всего… [8, с. 80].
С высоты гор, с минутного разговора с другом герой понимает, что жизнь города не дает остановки в быстром темпе жизни, для ее осмысления, понимания себя. Все летит, мелькает, как страницы календаря. У героя по-настоящему нет времени, чтобы задуматься о том, правильно ли он живет. При этом он понимает, что он не один такой — в городе. И находятся люди, которые, на первый взгляд, безотносительны к городскому темпу ритма, но в своем неторопливом круговороте жизни также стремительны, как само это пространство:
Вечерами только тишь над городом, только сонно Селенга всплеснет, наклонив легонько набок голову, девушка выходит из ворот.
Улица вечерняя, хорошая, фонари мигают там и тут. Посмотри, как нежные прохожие за тобой на цыпочках идут.
Как намеками прозрачно балуясь, модные подняв воротники, пареньки порхают, словно бабочки, обжигаясь о глаза твои.
Нет, не замечает! Возле тополя, улыбаясь, постоит молчком, и опять торжественно и тоненько застучит веселым каблучком. Жить охота радостно и гордо и шагать уверенно вперед — так идет ее улыбка городу, так самой ей город наш идет! Горожанка, имя твое и отчество, подними же ласковый свой взор, мне сегодня рассказать так хочется, что в душе творится с неких пор! Воздух пьян от тополиной горечи. пьян от ветра и весны народ^ Будет очень, очень грустно городу, если ты не выйдешь из ворот [9, с. 19].
Стихотворение создает образ человека, казалось бы, живущего в своем тем-по-ритме — некой горожанки. Ее образ не вписывается в суетность города. Она не зависит от всеобщей пространственно-временной устремленности города. Наоборот, она как будто вносит размеренность, степенность, останавливает эту бешеную скачку времени в городе. Все и вся мгновенно прерывают свое течение, любуясь ею. Ведь так «идет улыбка ее городу, // так самой ей город наш идет!». Грусть лирического героя понятна: горожанка настолько живет в своем мире, в чувстве собственного достоинства, превосходства, возможно, над окружающими, что не понимает своей нужности этому — жаждущему ее пространству. В том, что героиня не поднимает свой взор на общество, проступают черты эгоизма. Поэтому лирическому герою несколько тревожно от ее поведения, ведь от этого идет и также замкнутость, закрытость человека, что может обернуться бедой для нее же самой. Поэтому у героя теплится надежда, что очередной ее выход из ворот, возможно, будет другим.
В стихах В. Липатова также образ города предстает прежде всего в лицах прохожих девушек:
Я простоял у перекрестка, Чтоб вновь, уже издалека Взглянуть, как ты проходишь броско. Откинув голову слегка.
Ты шла легко и отстраненно Среди привычной суеты. А я смотрел, смотрел влюбленно, Как в сумраке терялась ты.
Вот также в дымке озаренья, Как ты — в предзимье золотом, Уходят лучшие мгновенья, Но мы не ведаем о том^ [3, с. 18] .
Чувства героя В. Липатова схожи с лирическим настроением героя А. Щи-това. Образ прохожей девушки также знаком, в чем-то близок лирическому герою. Более того, по всей видимости, она также не подозревает о чувствах лирического героя, который тайно любуется ей. В героине та же легкость, отстраненность от общества, любование собой «среди привычной суеты» города. Разница в том, что у героини В. Липатова нет налета эгоизма, а есть только заключенная в ней стремительная мгновенность жизни. И это с сожалением отмечает лирический герой. Что-то похожее заключается и в другом стихотворении поэта:
Я вышел из дома,
Когда солнце стояло в зените.
Шагать было легко,
Потому что не приходилось тащить за собой
Груз собственной тени.
Бегущие из переулков девушки
Жадно всматривались мне в лицо, Словно объяснялись в любви.
А я шагал, шагал все быстрее.
И солнце медленно опускалось навстречу.
Новые девушки выбегали из переулков, Только эти словно не замечали меня, — Они спешили к своим любимым.
При ярком еще вечеряющем свете
Плавала
Еле видимая на синеве Туманная долька луны, А дорога поднималась все выше и выше…
Шагать было нелегко.
Приходилось с силой выбрасывать вперед
Порядком уставшие ноги.
Длинноногая девушка
Глянула на меня
Долгим и ласковым взглядом.
Господи! Где я видел этот взгляд? Где?
Так смотрела
Родная по матери сестра
На своего отца [2, с. 45–46].
Казалось бы, поэт вбрасывает в лирическую картину мира все образы, символы жизни без разбора, настолько в ней все уплотненно, сгущено и повторяемо образами пробегающих мимо героя девушек. Одним он интересен до объяснения в любви, другим — безразличен:
Помню до разности малой
Краткие встречи с тобой:
Шарф ли с каемочкой алой
Или берет голубой;
Встречных ли странные взгляды, Твой ли мятущийся взгляд; Помню беседку горсада, Тот покупной виноград.
Слышу твой голос, да что там, Он иногда и во сне
Вспыхнет на грани излета, Словно привидится мне^ И от того, что такое В памяти не зачеркнуть, Нет ни минуты покоя, Как и надежды вернуть [4, с. 8].
Не случайно культуролог И. И. Свирида считает город с его составными частями, которыми оказываются и люди, точками сгущения особой культурной энергии [5, с. 16]. Эта энергия проявляется и в том, как стремительно время, движимо от зенита к закату, а герой идет и идет по улицам города, всматриваясь в прохожих:
Хожу, просматривая лица, Но ни в трамваях, ни в кино, Ни там, где молодежь густится, Нам встретиться не суждено. Стою, таясь, у ресторана, Спешу с толпой в ее набег... Тебя же нет. Нет, как ни странно, Как будто не было вовек [4, с. 22].
Что же ищет герой до такой степени, что уже еле передвигает уставшие ноги? Скорее всего, в пространстве города ему не хватает родственной души, с которой можно остановить стремительность времени. Вот почему он обращает внимание на длинноногую девушку и узнает в ней (или наделяет ее) родством («Родная по матери сестра). Значит, герою не хватает родственной души в пределах города. Этим стихи о городе В. Липатова отличаются от произведений А. Щитова.
Это и есть тот момент, что отмечают исследователи, когда «социокультурное пространство города отражает трансформацию человеческой мысли, происходившую под влиянием различных факторов естественного окружения человека, а также сменяющих друг друга социальных, экономических и культурных факторов — внешних и внутренних. В этом смысле можно говорить о городе как о сосредоточии артефактов культуры» [6, с. 12].
Таким образом, образ города Улан-Удэ наделяется у поэтов для каждого близкими, родными чертами. В нем лирический герой видит и средоточие культурно-духовной концентрации как особого пространства, и жизнь близких ему людей, и в то же время их отсутствие. Оттого тональность стихотворений по лириков разная. Кто-то грустит о давно исчезнувшем, другой восхищается особенностью отдельных личностей, иной печалится об отчужденности людей друг от друга, отсутствии родственной души. В целом стихи поэтов не могут оставить читателей равнодушными.