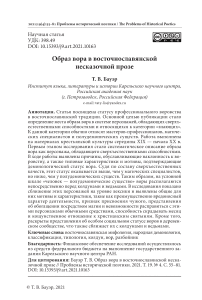Образ вора в восточнославянской несказочной прозе
Автор: Бауэр Татьяна Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена статусу профессионального воровства в восточнославянской традиции. Основной целью публикации стало определение места образа вора в системе персонажей, обладающих сверхъестественными способностями и относящихся к категории «знающих». К данной категории обычно относят мастеров-профессионалов, магических специалистов и полудемонических существ. Работа выполнена на материалах крестьянской культуры середины XIX - начала ХХ в. Первым этапом исследования стало систематическое описание образа вора как персонажа, обладающего сверхъестественными способностями. В ходе работы выявлены причины, обуславливающие наклонность к воровству, а также типовые характеристики и мотивы, подтверждающие демонологический статус вора. Судя по составу сверхъестественных качеств, этот статус оказывается выше, чем у магических специалистов, но ниже, чем у полудемонических существ. Таким образом, на условной шкале «человек - полудемоническое существо» воры располагаются непосредственно перед колдунами и ведьмами. В исследования показано сближение этих персонажей на уровне лексики и выявлены общие для них мотивы и характеристики, такие как преимущественно вредоносный характер деятельности, признак присвоения чужого, представления об обогащении посредством магии и невозможности расправиться с этими персонажами обычными средствами, способность скрадывать месяц и кощунственное отношение к христианским святыням. Кроме того, раскрыты представления об особом социальном статусе воров в деревенском сообществе, что также сближает их с колдунами и ведьмами.
Восточнославянская мифология, народная демонология, классификация, типология, колдун, вор, разбойник
Короткий адрес: https://sciup.org/147236188
IDR: 147236188 | УДК: 398.49 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.10163
Текст научной статьи Образ вора в восточнославянской несказочной прозе
В восточнославянском фольклоре образ вора занимает важное место. Особенности этого образа во многом определяются спецификой различных фольклорных жанров, в которых он представлен. Кроме того, свой отпечаток на восприятие воровства и отношение к вору накладывают обстоятельства совершения кражи: для фольклора важны характеристики вора и его жертвы, цели и результаты кражи, способ ее совершения и т. д. Поэтому в фольклоре может встречаться амбивалентное отношение к воровству [Кири-як: 6, 10–17, 21], [Бауэр, 2019b: 44–49, 230]. Так, например, в сказочных сюжетах воровство, совершенное отрицательным персонажем, расценивается как зло. Однако в некоторых сюжетах волшебных, а также бытовых сказок, например, в сюжете «Ловкий вор» встречается поэтизация воровства, которое ассоциируется с такими качествами, как ловкость, удаль, остроумие, находчивость, смелость, мастерство [Ки-рияк: 12–13], [Юдин: 49–59]. Некоторые персонажи, занимающиеся воровством и разбоем, обладают в фольклоре положительными коннотациями. Так, в Новгородской губернии было зафиксировано предание о мужике Ровняе, который получил свое прозвище за то, что «…людей ровнял: от богатых убавлял — бедным прибавлял» ( Тихвинский фольклорный архив : 112–113). Данный образ, как и образ Робин Гуда в английской фольклорной традиции, ассоциируется с представлениями о социальной справедливости, а мотив дележа имущества соответствует принципу уравнительной этики.
Согласно общепринятому представлению, миф существует вне этики, однако, по мнению С. М. Толстой, этическая проблематика присутствует в традиционной народной культуре и мифологическое сознание оперирует этическими категориями и понятиями, имеющими, правда, несколько иной, непривычный нам смысл. Народная «этика» базируется на представлениях о норме и ее нарушении, о наказании за преступление и искуплении греха, при этом наказания могут быть более строгими, чем церковная епитимия. Однако в обычном праве наказание исходит от социума, в христианском законе — от Бога, а «мифологическую» мораль «…опре-деляет, соблюдает, поддерживает и восстанавливает в случае нарушения сама природа» [Толстая, 2000b: 378], [Захаров: 337].
Поскольку объем статьи не позволяет рассмотреть все аспекты восприятия воровства и особенности репрезентации образа вора в различных жанрах фольклора, предполагается сосредоточить внимание на тех источниках, которые традиционно используются для описания мифологических персонажей, содержат установку на достоверность и позволяют рассмотреть воровство как один из видов черной магии. К таким источникам можно отнести мифологические рассказы и поверья. Кроме того, для анализа привлекаются описания ритуально-магических практик, пословицы, запреты, предписания и данные народной лексики и фразеологии. В работе анализируются крестьянские представления о воровстве как об одном из видов магии. Вероятнее всего, подобные представления были характерны и для городской традиции, отражаясь в т. н. низовом городском фольклоре, однако эти представления в рамках интересующего нас периода практически не фиксировались собирателями.
Исследователи обратили внимание на то, что воровство можно рассматривать как один из видов особого знания и магического ремесла, еще в конце 1990-х гг. [Толстая, 1999: 643], а в последнее время появились работы, в которых сопоставляются концепты воровства и колдовства и сравниваются образы колдуна, вора и разбойника [Христофорова: 206–237], [Мазалова]. Перечисляя персонажей, наделенных сверхъестественными способностями, специалисты, изучавшие славянскую мифологию, не упоминали среди них воров, хотя и оставляли этот список открытым [Виноградова, 1994: 5–6], [Гура, 1997: 14].
Л. Н. Виноградовой была предложена типология людей, обладающих сверхъестественными способностями. Данная типология предполагает наличие двух больших классификационных групп: людей с некоторыми ирреальными свойствами и т. н. «знающих» (мастеров-профессионалов, магических специалистов и полудемонических существ) [Виноградова, 2017: 369–371]. Отличительные особенности «знающих» заключаются в том, что они владеют искусством оборотниче-ства, обучаются колдовству и вступают ради магического знания в контакт с нечистой силой, т. е. «…в гораздо большей степени обладают признаками “демонизированных персонажей”» [Виноградова, 2018: 215]. Образ вора, как мы увидим далее, относится к категории «знающих», однако место для него в данной типологии не предусмотрено.
Сверхъестественные способности приписываются, как правило, профессиональным ворам, занимающимся достаточно крупными и носящими системный характер кражами, для таких людей воровство является основным занятием, дающим средства к существованию. Большую роль играет при этом атмосфера страха, нагнетаемая систематическими кражами и угрозами вора. Приписывание сверхъестественных способностей, прежде всего, таких, как способность проникать всюду и неуловимость, является своеобразной реакцией членов деревенского сообщества на этот страх.
Чаще всего сверхъестественные свойства приписывали конокрадам, которых причисляли «…к колдунам или вообще к знающимися с нечистой силой» (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 113), и святотатцам, продавшим, согласно крестьянским представлениям, душу дьяволу ( Русские крестьяне , т. 2, ч. 1: 604). Сверхъестественными способностями могли наделять и всех жителей деревни, если они занимались воровством как промыслом. При этом актуализуется мотив неуловимости воров, которых крестьяне внезапно теряют из виду в ходе погони, что объясняется помощью нечистой силы (АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1117. Л. 7).
Примечательно, что уподобление вора демонологическому персонажу прослеживается уже на уровне лексики: как для беса, домового, так и для вора могли использовать одно наименование — «шиш» ( Опыт : 266). Кроме того, важно отметить, что архаическое значение слова «вор» было более широким: ворами называли обманщиков, мошенников, прелюбодеев, смутьянов, изменников, политических преступников [Черных: 165], [Фасмер: 350]. По справедливому замечанию О. Б. Христофоровой, «подобно тому, как “колдовство” суммирует все антинормы, так и “воровство” в русской культуре — почти универсальный ярлык для греховного поведения, “вором” могли назвать и разбойника, и убийцу, и прелюбодея» [Христофорова: 208].
Пристрастие к воровству могло быть связано с идеей предопределенности судьбы. Так, несчастливая судьба ребенка была заранее предопределена, если он рождался в пятницу: «Все горькие пьяницы и неисправимые “лайдаки, воруги” и, вообще, бездельники, рождаются в пятницу» (Никифоровский: 12). В данном случае представления базируются на фонетическом сходстве слов «пятница» и «пьяница», а затем уже выстраивается негативный ассоциативный ряд: «пьяница — бездельник — вор».
Кроме того, считалось, что дети, зачатые в среду и пятницу (постные дни), а также в кануны больших праздников, окажутся наделенными дурными наклонностями, в том числе и склонностью к воровству ( Магницкий : 20). Эти последствия являются наказанием за нарушение родителями существовавших в культуре сексуальных запретов, характерных для поминальных, постных дней и канунов праздников.
Судьба младенца могла зависеть и от погоды во время родов. Считалось, что воры рождаются «…кали чорт едзе з веселлем (подчас вихру)» ( Pietkiewicz : 81). Склонность к воровству объяснялась также тем, что ребенок в младенчестве был похищен нечистой силой и подменен «нечистиком» либо чуркой, веником [Соколова, Некрылова: 10].
Наклонность к воровству могла быть следствием нарушения запретов, относящихся к поведению беременной или к правилам обращения с ребенком. Так, характер совершения некоторых действий беременной женщиной, молодой матерью, повитухой и другими лицами, в частности их излишняя активность, быстрота, повторяемость, совершение некоторых действий голыми руками, могли привести к тому, что ребенок, повзрослев, становился вором. К этим же последствиям приводили действия, связанные с пересечением некой границы, препятствия.
Так, беременной запрещалось передавать и принимать что-либо через огонь, а также вынимать из него голыми руками какие-либо предметы; домашним нельзя было перебрасывать вещи через колыбель; повитуха не должна была хватать полагающиеся ей в награду серебряные монеты, которые отец бросил в воду во время купания младенца, а должна была медленно выгрести их в карман, «…иначе дитя будет “хапаць чужоя добро”» ( Никифоровский : 5, 24, 14).
Считалось, что кража, совершенная беременной женщиной, и самовольное пользование чужими вещами приведет к тому, что ребенок впоследствии станет вором, «…за исключением тех случаев, когда мать крала съестные предметы и не доедала их до “остатку”» ( Никифоровский : 5). Свою роль могла сыграть особая временная приуроченность некоторых действий. Так, «…мать старалась не кормить малыша в потемках (воришкой вырастет)» [Соколова, Некрылова: 53]. Запрет есть в потемках с мотивировкой «воровать будешь» или «дети воры будут» существовал и по отношению к мужу и жене ( Иваницкий : 142). Скорее всего, он базируется на представлении о ночи как о «воровском» времени: «Темна ночь вору родная мать» ( Ил-люстров : 349); «Наделил бог детками: день в кабаке, а ночь по клетям» ( Даль : 178).
Существовал в культуре и запрет, связанный с представлениями о второй попытке что-то сделать. Так, нельзя было возобновлять грудное вскармливание, чтобы ребенок впоследствии не стал вором [Кабакова, 1995: 566]. К негативным последствиям приводило и совершение какого-либо действия двумя людьми одновременно. Считалось, что если два человека произнесут одно и то же слово одновременно, то ребенок, родившийся в эту минуту, станет вором ( Романов : 304). Кроме того, существовал запрет, связанный с имянаречением, базирующийся на представлении о схожести судьбы у людей с одинаковыми именами. Крестьяне верили, что нельзя давать новорожденному какое-либо имя, если такое же имя в данном селении принадлежит вору, в противном случае ребенок, когда он вырастет, обнаружит дурное пристрастие к воровству ( Federowski : 301).
Весьма убедительное объяснение феномену двоичности дает Е. Е. Левкиевская. По ее мнению, разные формы удвоения, воспринимаемые как патология, приводят к появлению у человека избыточной жизненной силы, а соответственно, и «иномирных», демонологических свойств, выводя его за рамки социального мира [Левкиевская, 2016: 343–344].
Еще один запрет связан с употреблением в пищу сердца или мяса ворона. В данном случае актуализуется семантика «нечистоты», свойственная этому амбивалентному образу. Следует отметить, что образ ворона в славянских представлениях тесно связан с мотивом кражи [Гура, 1997: 533–538]. При толковании образа важна такая характеристика этой птицы, как хищность, и сходство на основе аллитерации издаваемых вороной звуков с глаголом «красть» [Гура, 1997: 536]. Возможно также сближение названия самой птицы со словом «вор».
Склонность к воровству могла расцениваться и как семейно-родовая черта: «…воровство идет родом, из поколения в поколение: ежели отец — вор, то и дети у него, почти всегда, тоже воры» ( Русские крестьяне , т. 2, ч. 2: 394). В легенде об основании полесского села Речица встречается упоминание о воре-«прародителе», давшем начало целому поколению воров [Кабакова, 2001: 23].
Если попытаться определить место образа вора в системе персонажей, обладающих сверхъестественными способностями, то оказывается, что он, с одной стороны, близок мастерам-профессионалам — мельнику, пастуху, печнику, кузнецу и т. д., а с другой — колдуну. Кроме приписываемых этим персонажам особых способностей, их сближает «чужесть» деревенскому сообществу: «тайная сила в традиционном понимании связана <…> со статусом чужака», причем «в ряде случаев <…> речь идет о <…> символическом отчуждении» [Щепанская: 72].
Воровство как ненормативное, конфликтное занятие само по себе способствовало отчуждению вора. На отношение к вору влияли и религиозно-этические представления, согласно которым в отвлечении от конкретики воровство, как вмешательство в сферу деятельности Бога, одной из функций которого является перераспределение земных благ, считалось грехом [Лис: 34]. Поэтому деревенские жители стремились к ограничению контактов с вором, что вело к его изоляции. В случаях, когда от контактов невозможно было уклониться (например, когда они были навязаны вором, которого опасались), действовали определенные правила коммуникации, нацеленные на избегание конфликтных ситуаций.
При характеристике вора зачастую подчеркивались его нелюдимость, изолированный образ жизни. Чаще всего профессиональные воры — вдовцы или холостые, бывшие арестанты или ссыльнопоселенцы, живущие на отшибе или в другой деревне (Г. О.: 13), [Frank: 131]. Отмечалось также «странное» поведение, в частности полное отсутствие тяги к земледельческой деятельности: «…отбились они [воры] от семей, хлебопашеством не занимаются» (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 103); «Тати (или: «Воры») не жнут, а погоды ждут» (Ил-люстров: 349).
Согласно стереотипному представлению о воре, он обладал полным набором отрицательных нравственно-этических характеристик: проявлял приверженность к пьянству, разврату, обману. Связность данных элементов концептуальной цепочки обыгрывается в разнообразных фольклорных текстах. О приверженности вора к пьянству и распутству свидетельствует характерное заявление не скрывающего своего воровского призвания сказочного героя о том, что он обучен одному искусству: «Воровству-крадовству да пьянству-б…у», а также его ответ на вопрос: «На что потрачены украденные деньги?» — «Одну половину денег пропил, а другую половину денег — с девками прогулял» [Синявский: 45]. Связь таких девиаций, как воровство и обман, демонстрируют разнообразные паремии: «Врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так вор»; «Кто лжет, тот и крадет» ( Даль : 236).
Кроме того, вор проявлял неуважение, а иногда и кощунственное отношение к христианским святыням. Данный вариант антиповедения свойственен также сопоставимым с образом вора фигурам колдуна и разбойника [Успенский: 329–330]. Среди самих воров внимания в этом плане заслуживает образ святотатца, который характеризовался как «…человек “отпетый” и “отчаянной жизни”» ( Русские крестьяне , т. 4: 195); «…нехрист[ь] <…>, звер[ь]» ( Русские крестьяне , т. 1: 363), «…безбожник», который «…может и человека убить» ( Русские крестьяне , т. 3: 187). Особый интерес представляет демонологический аспект семантики слова «отпетый», которое этимологически приравнивает изгоя к ходячему мертвецу, являющемуся олицетворением нечистой силы [Лотман, Успенский: 226].
Для нас достаточно важным обстоятельством является то, что в текстах вора могут называть колдуном. Как отмечает О. Б. Христофорова, концепты «колдовство» и «воровство»
тесно связаны «…на разных уровнях — оценки самого действия, поиска виновника и его наказания, а также мер профилактики». Близость данных понятий прослеживается при рассмотрении термина «воровство» в широком смысле как отнятия чужого, причинения ущерба. При такой трактовке воровства естественным является «…восприятие колдунов как воров, которые магическими средствами присваивают себе то, что обычным ворам забрать не под силу — молоко у коровы, урожай с поля, здоровье человека. <…> Можно сказать, что если не всякий вор — колдун, то всякий колдун — вор» [Христофорова: 208, 217, 220]. В сказочных сюжетах, по мнению А. Синявского, вор является вариацией колдуна, а кража является имитацией магии, чуда [Синявский: 49–50].
Однако вор и колдун — все же неравнозначные фигуры. Особое знание и способности, которые получает вор в результате совершения магических действий, имеют узко специализированную направленность: все они соприкасаются со сферой воровского ремесла и призваны либо обеспечить вору удачу при совершении краж, либо позволить ему продемонстрировать свои способности, подтвердить свой демонологический статус, запугать население, в то время как объем функций колдуна и сфера проявления его способностей значительно шире — хотя он и совершает преимущественно вредоносные действия, но может также лечить, привораживать и т. д.
Крупное и систематическое воровство, дающее средства к существованию, осмысляется как профессиональная, хотя и преступная деятельность и сближается поэтому с деятельностью других мастеров-профессионалов: «У кого воровство, у того и ремесло»; «Ремесла не водит, а промысел держит» ( Даль : 182). Именно по этому признаку в одну группу попадают воры и разбойники. Последние также связаны с нечистой силой, причем отношения мыслятся как серия взаимных услуг: «Да и как дьяволам не услужить ворам-разбойникам, когда они сами служат нечистой силе, губят души христианские?» ( Осокин : 29).
И колдуны, и воры, и разбойники — типологически близкие фигуры. Рассматривая образ разбойника в одном ряду с колдунами, спознавшимися с нечистой силой, Б. А. Успенский отмечает, что генетически подобное сближение «…связано <…> с сакральными свойствами золота и богатства в славянском язычестве <…>, определяющими представления о магических способах обогащения» [Успенский: 329]. Этот ряд можно дополнить фигурой профессионального вора, представления о котором также тесно связаны с мотивами обогащения посредством магии.
Особое отношение к мастерам-профессионалам и к колдунам базировалось на представлении об их связи с нечистой силой, т. е. на первое место выходил демонологический аспект их деятельности [Виноградова, 2018: 216–217, 223–224]. Воровство также было связано с нечистой силой, которая могла выступать инициатором греховных поступков: «Воры не родом ведутся, а кого чорт свяжет» [Максимов, 1869: 2]. Смысл связывания, лишения свободы действий прослеживается также в выражении «грех меня попутал» ( Русские крестьяне , т. 1: 75), которое можно считать синонимичным данному. В этом выражении показательно употребление слова «грех» в значении «нечистая сила» [Толстая, 2000a: 13–14] и глагола «попутать», указывающего на представителей иного мира. Таким образом, одной из возможных характеристик действий вора являлась их подневольность, а воровство могло расцениваться как дьявольские происки.
Характерен в этом отношении мотив подстрекательства к краже нечистой силой в оправданиях вора: «Дьявол меня смутил на это» [Тенишев: 39]; «…грех меня попутал, соблазнил меня дьявол» ( Русские крестьяне , т. 1: 75). Однако подобные реплики и оценка воровства как дьявольских происков могли вызвать сочувственное отношение лишь в том случае, если кража была совершена человеком, прежде имевшим безупречную репутацию.
Представители нечистой силы не только подстрекают к совершению краж, но и помогают вору. Так, один из нарративов («Рассказ про вора. Кто обучил его красть»), заканчивающийся нравоучительной установкой, развивается по следующей сюжетной схеме: сначала вор ворует неудачно — во сне ему является некто, зовущий воровать вместе — этот некто оказывает помощь в кражах, остающихся безнаказанными — вор из книги узнает о неправедности своего занятия и о грозящей ему загробной участи — вору во сне является старец, который не велит ему воровать по случаю Рождества Христова и учит его, как распознать того, кто помогал ему в кражах — вор выполняет все наставления старца и видит, что помогал ему черт — вор рассказывает жене о случившемся, и она советует мужу раздать неправедно нажитое имущество нищим и сиротам — вор перестает красть и заповедует детям отказ от воровского ремесла. Рассказ, таким образом, иллюстрирует борьбу нечистой и божественной силы за душу грешника: черт учит вора красть, а старец способствует прозрению вора, показывая ему истинное лицо помощника (Русские крестьяне, т. 1: 98–99).
Отношения вора с представителями иного мира могли мыслиться и как договорно-обменные. О таком воре говорили «душу продал черту», «зачитал себя» (в последнем случае имеется в виду ритуал отречения от Бога, заключающийся в чтении молитвы «Отче наш» наоборот, начиная со слов «от лукавого») [Мануйлов: 17].
Ритуал отречения являлся одним из вариантов антиповедения, обеспечивающим вызывание представителей потустороннего мира и действенное общение с ними. Другим вариантом получения помощи со стороны представителей иного мира было существовавшее в воровской среде своеобразное «благословение на дело», заключавшееся в том, что староста воровской деревни «…подавал им [ворам] каждому левую руку (в знак того, что если Бог в этом деле не поможет, то поможет нечистая сила) (АРЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1117. Л. 12а). Мотив обращения за помощью к нечистой силе содержится и в одном из воровских заговоров XVIII в.: «Падшая сила, Сотонины угодники <…>! Как вы служите своему царю Со-тоне верою и правдою, також и мне и[мяреку] послужите верою и правдою» ( Отреченное чтение : 120).
Договорной тип отношений с нечистой силой характерен и для колдунов, и для разбойников, и для мастеров-профессионалов. В рамках этих отношений инициатором выступает сам человек, осознанно желающий приобрести поддержку нечистой силы в своем ремесле.
Как отмечают специалисты, занимающиеся проблемами славянской мифологии, отношение односельчан к «знающим» было двойственным: с одной стороны, их боялись, с другой — старались не вызывать их неприязнь и демонстрировали уважительное отношение, поскольку магическую силу «знающих» невозможно было контролировать [Виноградова, 2018: 229], [Валенцова: 24]. Точно так же крестьяне относились и к ворам: «…темный человек хранит к ним [ворам] боязливую почтительность. Он бежит от тесной дружбы и побратимства с ними, как заклейменными дьявольскою печатью, но в то же время не считает уместным и совершенно отстраняться от них, забывать их; «Богу молися и дъябла не гняви» — говорит он. Предоставляя почетное место на пирушке, поднося первую рюмку водки и лакомый кусочек <…>, все-таки старается заручиться благорасположением такого человека» ( Никифоровский : 282). Получается, что обычному крестьянину приходилось балансировать между Богом и дьяволом ради сохранения определенного равновесия и стабильности, а амбивалентное в плане внутреннего и внешнего выражения отношение к ворам было обусловлено тем, что они «знаются» с нечистой силой и, соответственно, представляют опасность.
Страх, основанный на представлении о связи воров с нечистой силой, побуждал крестьян при расправе с ними использовать те же средства, что и при расправе с колдунами, ведьмами и разбойниками. Использование этих средств позволяло лишить данных персонажей магической силы. Так, вора рекомендовалось бить трехгодовалой осью (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 113), а ведьму «…старою осью от старой телеги» (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 7. Л. 13). Считалось также, что разбойники, колдуны и воры неуязвимы для обычных пуль. Разбойника можно было убить только медной или оловянной пуговицей, а колдуна — серебряной или медной пулей или пуговицей [Левкиевская, 2009: 394–395] либо пулей, отлитой из медного креста ( Мифологические рассказы : 228). В вора тоже требовалось стрелять медной пуговицей, поскольку «…оло-вянная пуля его не брала» ( Богатырев : 60). Кроме того, при избиении вора рекомендовалось снять с него правый сапог [Мануйлов: 17].
Вор, как и прочие «знающие», считался обладателем сверхъестественных способностей. Одной из таких способностей, которая приписывается как ворам, так и колдунам [Виноградова, 2018: 225], разбойникам [Левкиевская, 2009: 392], а также мастерам-профессионалам: пастухам [Плотникова, 2004: 639], мельникам, кузнецам и овчарам [Славянская мифология: 279], — является способность к оборотничеству. Она обеспечивает вору неуловимость либо является демонстрацией магической силы. Приведенные ниже примеры свидетельствуют, что подобные тексты бытуют не только в виде быличек, но и в форме слухов, продуцировать которые может сам вор с целью утверждения своего авторитета и поддержания атмосферы страха в деревне.
Отметим также, что репутация «знающего», авторитет которого базировался на страхе, могла значительно облегчить совершение бытового воровства. Подобную репутацию можно было создать, имитируя внешний облик «знающего» и используя характерные для него стратегии поведения: «…на гум-ны воровать ходила. Бывало, пойду ночей, распущу рубашку, распояшусь <…> и воплю”. А говорили, называли, что вопил-ки. <…>. Она говорит сама: “Нет, родимая, я не колдунья, а вот вопить я вопила <…>, чтобы это… меня боялись”» ( Представления : 185–186). Подобное поведение описано одним из корреспондентов Тенишевского бюро: находчивые бродяги прикинулись оборотнями, используя саван, хвост из овчины и ходули, чтобы обкрадывать крестьян (АРЭМ. Ф. 7. Оп. 2. Д. 1220. Л. 27–29).
Вор способен обернуться насекомым и собакой, внешне похожей на волка: «Андронов распустил слух, что его теперь даже никто изловить не может, что он де в состоянии превратиться в муху и вылететь в щель» (Санкт-Петербургские ведомости: 1); «Тут недалеко от пекарни у дяди своего вор жил… <…>. Я как-то в ночь работала. Смотрю, под утро идет. А взгляд у него страшный был, ну, прямо волчий, так и сверкает из-под бровей! Я как увидела его — ох, испугалась! <…> Только я отвернулась на секунду — смотрю: а уж рядом собака стоит. Серая, все равно, что волк. У меня ноги так и подкосились» (Мифологические рассказы: 194). Примечательно, что в Поволжье волком называли пойманного с поличным вора, которого водили с позором по селу, надев на него шкуру украденного им животного (Мельников: 92–93). Также у В. И. Даля: «Есть в нем серой шерсти клок (т. е. вор)» (Даль: 174). Интересные замечания по поводу ассоциации разбойника с волком-оборотнем делают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский. Исследователи считают, что определенные демонологические черты, позволяющие провести эту параллель, придает разбойникам их «вывернутый» образ жизни: днем они ведут себя обычно, а ночью выходят на добычу [Лотман, Успенский: 228]. По сути, то же самое относится и к профессиональным ворам.
Существовало в крестьянской традиции и представление о такой особенности, подтверждающей магическую силу вора, как способность скрадывать месяц ( Виноградов : 6). Кража месяца предваряет бытовую кражу, является подготовкой к ней. Мотивировка действия рациональна: темнота позволяет при совершении кражи остаться незамеченным. Отметим, что способность скрадывать небесные светила приписывалась также колдунам-чернокнижникам, дьяволу [Плотникова, 1999: 277] и ведьмам, причем в некоторых сюжетах схема та же: кража месяца ведьмой предваряет кражу молока у коров [Афанасьев: 488]. Кроме того, зафиксировано поверье, что «…ведьмы снимают с неба звезды, чтобы притягивать себе чужие деньги» [Сумцов: 268]. Отметим также, что славянские этиологические легенды, повествующие о происхождении пятен на луне, достаточно часто связывают их появление с образом вора [Гура, 2006: 463].
Хотелось бы упомянуть и еще об одной способности вора, известной по рукописному источнику XVII в., — способности нейтрализовать собак, — которую можно было приобрести, совершив следующие действия: «Коли волка убиваеш, и как начнет умирати, и ты ему во ута кол вложи, да ручных два перста вложи в ноздри, и держи в ноздрех у него, доколе умрет. И на того человека собаки не лают» ( Отреченное чтение : 374). Эта способность была актуальна и в XIX в., но приобреталась она другими средствами: с помощью трав и заговоров, т. е. являлась отчуждаемой. В ходе описанного ритуала человек, совершающий его, надеялся, по всей вероятности, обрести те свойства волка, которые отпугивают собак, заставляя их замолкать при приближении хищника.
Способность к оборотничеству и способность скрадывать месяц присущи вору как субъекту, вступившему в контакт с нечистой силой и заключившему с ней договор (хотя в текстах связь этих мотивов не эксплицируется).
Важной особенностью вора была и неуловимость. Способность воровать в течение года, оставаясь при этом не пойманным, можно было приобрести в результате заворовывания . Судя по текстам, это был наиболее распространенный способ приобретения удачливости в воровском промысле.
Чтобы обеспечить удачу на весь следующий год, рекомендовалось незаметно украсть что-либо на Пасху [Максимов, 1995: 576], на Бориса ( Энгельгардт : 169), в Благовещение ( Успенский : 104), на Рождество, на Новый год, в Покровскую субботу (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 96) — т. е. в праздники, являющиеся переломными в году. Нарушение идеи целостности, собранности в эти моменты вело к проницаемости некой границы, нарушению долевого равновесия, вследствие чего становился возможным нерегламентированный обмен в течение всего следующего года; т. е. удачное заворовывание , по сути, обеспечивало санкцию потусторонних сил на совершение воровства в рамках этого периода.
В некоторых текстах представлен своего рода усиленный вариант заворовывания — кража должна была произойти не только в сакрально отмеченный временной промежуток, но и в рамках сакрального пространства — в церкви, во время церковной службы, — приближаясь в данном случае к святотатству [Максимов, 1995: 576], а как уже подчеркивалось ранее, удачу в своем промысле вор зачастую получал, совершив кощунственные действия.
Отметим также, что материальная ценность вещи не имела значения, главное — остаться незамеченным при совершении кражи. Иногда даже сам факт кражи был необязательным: «На Пасху заворовывают. Вор садится на большую нашестку, где лошадь. Если хозяин не заметит, значит хорошо воровать станешь» (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 96). Украденные вещи затем могли возвращаться хозяину [Белогриц-Котлярев-ский: 110]. При заворовывании могли произносить особую формулу, обращаясь за помощью к Богу: «Господи, дай заво-ровать, я тебе свечку поставлю» (АРГО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 6. Л. 96).
В принципе, эта практика была актуальна не только в среде профессиональных воров. Свидетельством ее обыденности является тот факт, что крестьяне широко практиковали обычай заворовывания для того, чтобы обезопасить себя от штрафов за самовольные порубки [Левенстим: 115].
Невидимость, неуловимость, способность преодолевать преграды, нейтрализовать хозяев и собак, успех в краже, невозможность разоблачения обеспечивали ворам различные магические предметы, такие как шапка-невидимка, косточка-невидимка, цветок папоротника, разрыв-трава, свеча, изготовленная из жира мертвеца, веревка висельника и др. [Бауэр, 2018], [Бауэр, 2019a].
Обобщая сделанные наблюдения, можно отметить, что сверхъестественные способности приписываются, прежде всего, профессиональным ворам. Пристрастие к воровству могло связываться с идеей предопределенности судьбы, наследственностью, а также нарушением существовавших запретов и представлениями о подмене младенца нечистой силой. Если говорить о пространственно-темпоральных характеристиках, то они сводятся к тому, что воровской промысел ассоциируется с ночным временем, а в плане места проживания вор дистанцирован от односельчан. Согласно народным представлениям, профессиональным ворам, для которых преступная деятельность выступает основным источником доходов, присущи разнообразные сверхъестественные способности, приобретаемые в результате совершения ритуально-магических действий либо связанные с обладанием магическими атрибутами.
Сближает вора с другими персонажами, относящимися к категории «знающих», «чужесть» деревенскому сообществу, основанная, прежде всего, на представлениях о том, что они сознательно вступают в контакт с нечистой силой для получения магических способностей. Эти представления, в свою очередь, обуславливают амбивалентное отношение к обладателям особого знания и магических умений. Общей чертой является также способность к оборотничеству.
Возвращаясь к проблеме классификации персонажей, обладающих сверхъестественными свойствами, попытаемся определить место вора в ряду прочих «знающих». По мнению
Л. Н. Виноградовой, «мера <…> демоничности определяется составом сверхъестественных качеств» [Виноградова, 2018: 216]. Как нам представляется, демонологический статус вора по этому параметру оказывается выше, чем у магических специалистов даже несмотря на то, что основной профессией последних «…счита[лась] именно магическая деятельность, охватывающая самый широкий спектр жизненно важных интересов сельского населения» [Виноградова, 2018: 222].
Воры на условной шкале «человек — полудемоническое существо» размещаются перед колдунами и ведьмами. С этими персонажами их сближает деятельность, направленная преимущественно во вред людям, в том числе, и связанная с присвоением чужого. Как колдунам и ведьмам, так и ворам присуща способность скрадывать месяц, кощунственное отношение к христианским символам, в частности в контексте совершаемого ими ритуала отречения от Бога, и представления об обогащении посредством магии. Сближают эти образы и представления о том, что при расправе с ворами необходимо использовать те же средства, что и при расправе с колдунами и ведьмами, и что воров, как и колдунов, нельзя убить обычной пулей. Отметим особый социальный статус этих персонажей в деревенском сообществе: их боялись, причем в гораздо большей степени, чем мастеров-профессионалов, однако всячески демонстрировали уважительное отношение к ним. Предпочтительной стратегией поведения было избегание конфликтных ситуаций и выстраивание отношений по модели нормативных, и лишь накопление критической массы страха и ненависти могло спровоцировать расправу. Однако демонический статус вора был все же ниже, чем статус колдуна, поскольку колдун способен был магическими средствами присвоить себе то, что обычному вору украсть не под силу, т. е. не только имущество, но также урожайность, здоровье, жизнь. Кроме того, профессиональному вору все же приходилось совершать кражи самому, в то время как колдун мог обогащаться за счет краж, совершаемых в его пользу нечистой силой.
Список сокращений
АРГО — Архив Русского Географического Общества. Фонд С. М. Пономарева (Санкт-Петербург);
АРЭМ — Архив Российского этнографического музея. Фонд князя В. Н. Тенишева (Санкт-Петербург).
Список литературы Образ вора в восточнославянской несказочной прозе
- Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов: в 3 т. М.: Тип. Грачева и Комп., 1869. Т. 3. 840 с.
- Бауэр Т. В. Магические атрибуты вора: обеспечение невидимости (по материалам крестьянской культуры второй половины XIX — начала XX в.) // Традиционная культура. 2018. Т. 19. № 1. С. 127-138.
- Бауэр Т. В. Магические предметы, обеспечивающие вору особые способности (по материалам севернорусской традиции середины XIX — начала XX в.) // Рябининские чтения — 2019: материалы VIII конференции по изучению и актуализации традиционной культуры Русского Севера. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. С. 21-23. (a)
- Бауэр Т. В. Представления и практики, связанные с воровством в крестьянской культуре (по русским, белорусским и украинским материалам середины XIX — начала XX в.): дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2019. 315 с. (b)
- Белогриц-Котляревский Л. С. Мифологическое значение некоторых преступлений, совершаемых по суеверию // Исторический вестник: историко-литературный журнал. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1888. Т. 33. С. 105-115.
- Валенцова М. М. Человек силы в социуме // Slavica Nitriensia. Casopis pre vyskum slovanskych filologii. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2016. № 2. S. 23-36.
- Виноградова Л. Н. Человек как вместилище демонической души // Миф и культура: человек — не-человек: тезисы конференции. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. С. 5-9.
- Виноградова Л. Н. Непростые люди в сельском сообществе: о людях, наделенных сверхъестественными способностями. Ч. 1 // Славянский альманах. М.: Индрик, 2017. Вып. 3-4. С. 367-379.
- Виноградова Л. Н. Непростые люди в сельском сообществе: о людях, наделенных сверхъестественными способностями. Ч. 2 // Славянский альманах. М.: Индрик, 2018. Вып. 1-2. С. 215-233.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
- Гура А. В. Лунные пятна: способы реконструирования мифологического текста // Славянский и балканский фольклор: семантика и прагматика текста. М.: Индрик, 2006. С. 480-484.
- Захаров В. Н. «Муха летала, она видела! Разве этак возможно?» Проблема всеведения автора и мифопоэтический эффект в романе Достоевского «Преступление и Наказание» // Mundo Eslavo. Granada: Universidad de Granada, 2017. Вып. 16. С. 333-342.
- Кабакова Г. И. Грудь // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 563-566.
- Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М.: Ладомир, 2001. 335 с.
- Кирияк О. А. Социокультурный концепт «воровство» в русском и английском языковом сознании: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород, 2009. 26 с.
- Левенстим А. Суеверие и уголовное право. СПб.: Типо-Литография М. Я. Минкова, 1897. 176 с.
- Левкиевская Е. Е. Разбойник // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2009. Т. 4. С. 391-395.
- Левкиевская Е. Е. Мифологические механизмы сглаза: агрессоры и их жертвы (на материалах полесской традиции) // In Umbra: демонология как семиотическая система: альманах / отв. ред. и сост.: Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М.: Индрик, 2016. Вып. 5. С. 333-350.
- Лис Т. В. Проблема греховности воровства в традиционной культуре России (середина XIX — начало XX в.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2008. № 2. С. 32-38.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского времени («Свое» и «чужое» в истории русской культуры) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство — СПб., 2002. С. 222-232.
- Мазалова Н. Е. Колдун, вор, разбойник в произведениях русского фольклора // Университетский научный журнал. 2013. № 6. С. 112-118.
- Максимов С. В. Народные преступления и несчастья (часть первая) // Отечественные записки. 1869. Т. 182. № 1. С. 1-62.
- Максимов С. В. Куль хлеба: нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск: Русич. 1995. 670 с.
- Мануйлов А. Н. Преступление и наказание по обычному праву кубанских казаков (воровство и самосуд) // Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. 1998. № 3-4. С. 14-20.
- Плотникова А. А. Затмение // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 276-279.
- Плотникова А. А. Пастух // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004. Т. 3. С. 637-641.
- Синявский А. Иван-дурак: очерк русской народной веры. Париж: Синтаксис, 1991. 423 с.
- Славянская мифология: энциклопедический словарь / науч. ред. B. Я. Петрухин, Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. М.: Эллис Лак, 1995. 416 с.
- Соколова Л. В., Некрылова А. Ф. Воспитание ребенка в русских традициях. М.: Айрис-пресс, 2003. 208 с.
- Сумцов Н. Ф. Культурные переживания: исследование о южнорусском фольклоре с привлечением фольклорного материала всех славянских, а также арийских народов // Киевская старина. 1890. Т. 28. Январь.C. 1-216.
- Тенишев В. В. Правосудие в русском крестьянском быту: свод данных, добытых этнографическими материалами покойного князя В. Н. Те-нишева. Брянск: Тип. Л. И. Итина и К°, 1907. 192 с.
- Толстая С. М. Кража // Славянские древности: этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 640-643.
- Толстая С. М. Грех в свете славянской мифологии // Концепт греха в славянской и еврейской культурной традиции: сб. ст. М.: Институт Славяноведения РАН и др., 2000. Вып. 5. С. 9-44. (a)
- Толстая С. М. Преступление и наказание в свете мифологии // Логический анализ языка: Языки этики. М.: Языки русской культуры. 2000. С. 373-379. (b)
- Успенский Б. А. Антиповедение в культуре древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды: в 2 т. М.: Гнозис, 1994. Т. 1. С. 320-332.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. М.: Прогресс, 1986. Т. 1. 576 с.
- Христофорова О. Б. Колдуны и жертвы: антропология колдовства в современной России. М.: ОГИ; РГГУ 2010. 432 с.
- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Русский язык, 1999. Т. 1. 624 с.
- Щепанская Т. Б. Сила (коммуникативные и репродуктивные аспекты мужской магии) // Мужской сборник / сост. И. А. Морозов; отв. ред. С. П. Бушкевич. М.: Лабиринт, 2001. Вып. 1. С. 71-95.
- Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). М.: Лабиринт, 2006. 336 с.
- Frank St. P. Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856-1914. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1999. 352 p.