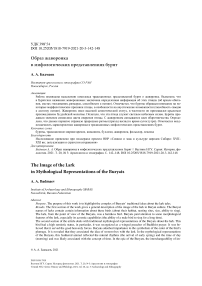Образ жаворонка в мифологических представлениях бурят
Автор: Бадмаев Андрей Андреевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена выделению комплекса традиционных представлений бурят о жаворонке. Выяснено, что в бурятских названиях жаворонковых заключена определенная информация об этих птицах (об ареале обитания, местах гнездования, размерах, способности к пению). Отмечается, что буряты обращали внимание на некоторые морфологические признаки птицы, в особенности на акустические возможности (способность самцов к долгому пению). Жаворонок имел высокий семиотический статус, в частности он признавался крылатым проповедником буддийской молитвы. Полагали, что эта птица служит светлым небесным силам. Буряты придавали значение символике цвета оперения птицы. С жаворонком связывается идея оборотничества. Определено, что данное пернатое отражало природные ритмы (приход весны) и время суток (утро). Отмечается неоднозначность характеристики жаворонка в традиционных мифологических представлениях бурят.
Буряты, традиционное мировоззрение, шаманизм, буддизм, жаворонок, фольклор, лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/147220504
IDR: 147220504 | УДК: 398’54 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-3-142-148
Текст научной статьи Образ жаворонка в мифологических представлениях бурят
В традиционном мировоззрении бурят сложилась оригинальная галерея орнитоморфных образов, которые были включены в представления о пространстве и времени, в мифологию, обрядность, народную медицину и др. Исследование таких образов является одним из шагов к раскрытию проблемы взаимодействия человека и природной среды в рамках традиционного бурятского общества. К числу птиц, входящих в эту галерею и удостоившихся отдельной характеристики, принадлежит жаворонок. Ранее мы предпринимали попытку анализа бурятских орнитоморфных образов [Бадмаев, 2020], но образ данной птицы в ней не затрагивался. Целью настоящей работы является выделение комплекса бурятских традиционных представлений о жаворонке.
Источниковую базу исследования составляют этнографические, фольклорные и лингвистические материалы. В работе использованы произведения устного народного творчества, опубликованные Е. В. Баранниковой, С. С. Бардахановой, Ц.-А. Дугар-Нимаевым, В. Ш. Гун-гаровым, И. А. Подгорбунским, Я. С. Смолевым, Н. О. Шаракшиновой и др. Основным языковедческим трудом для изучения бурятских воззрений о жаворонке является двухтомный словарь «Буряад-ород толи» [БРС, 2010].
Методика исследования основана на структурно-семиотическом методе, который предполагает выявление символики, связанной с жаворонком.
Общая характеристика жаворонка в культуре бурят
Жаворонок входит в орнитофауну Юго-Восточной Сибири, причем, согласно языковым данным, буряты отмечали распространенность в регионе представителей трех различных видов семейства жаворонковых: Булжамар, булжамуур ‘обыкновенный полевой жаворонок’ (Alauda arvensis); хээрын булжамуур ‘монгольский степной жаворонок’ (Melanocorypha mongolica); хайргана ‘жаворонок рогатый’ (Eremophila alpestris). Бурятское название полевого жаворонка, вероятно, имеет один корень со словом булжуухай ‘птичка, пташка’ [БРС, 2010. Т. 1. С. 151], и передает визуально небольшие размеры этого пернатого. Наименование второго вида жаворонковых – хээрын булжамуур – указывает на его ареал обитания, степную зону юга Забайкалья (хээрэ ‘степь’ [Там же. Т. 2. С. 528]). Наконец, номинация последнего из названных выше видов этой птицы связано с предпочитаемыми им местами гнездования – глинисто-щебнистыми шлейфами низких гор, сопок и подножий сухих склонов в горных па- дях: слово хайргана производно от хайр ‘галька, щебень’ [БРС, 2010. Т. 2. С. 381]. Кроме того, в языке бурят имеется еще одно название данного пернатого – жэргэмэл ‘жаворонок’, удостоверяющее его способность издавать мелодичные звуки: ср. жэргэгшэ ‘щебечущий’, жэргэлгэ ‘щебетание, чириканье’ [Там же. Т. 1. С. 365].
Между тем в традиционных воззрениях бурят, несмотря на разные названия, видовое различие у жаворонка не прослеживалось, жаворонковых рассматривали как один вид птицы, которая являлась безвредной, не наносившей какой-либо урон скотоводческому хозяйству. Жаворонковых не употребляли в пищу прежде всего потому, что они являлись почитаемыми птицами. Но дело еще и в том, что в целом охота на птиц занимала незначительное место в общей структуре промысла бурят, основными объектами которого были пушные звери, а также крупные копытные животные. Из птиц добывали только водоплавающих и боровую дичь.
Данное пернатое принадлежит к перелетным птицам. Факт его весенней миграции (прилета) отражен в фольклоре бурят:
Булшумури надан
Бадахада надан,
Харасагайн надан
Харихада надан.
(Игра жаворонка
Во время перелета,
Игра ласточки
Во время отлета)
[Подгорбунский, 1915. С. 100].
В народе особо выделяли некоторые морфологические признаки этого пернатого. Изменения в оперении жаворонка служили для бурят основой для предсказаний летней погоды. В частности, небольшой хохолок ( зyрэн ) на голове полевого жаворонка, который образно называли дождевой шапочкой, якобы указывал на то, что лето будет дождливым, а приобретение перьями птицы светло-серого оттенка будто бы предвещало наступление засухи [Лин-ховоин, 2014. С. 190].
Буряты, наблюдая за жаворонком, обращали внимание на то, что весной в период брачных игр самцы исполняют долгую мелодичную трель, особенно во время полета. По этой причине его относили к дууша шубууд ‘певчим птицам’. В бурятской лексике это свойство птицы, в частности, получило отражение в таком устойчивом выражении: Таhалгаряагyй ур-гэлжэ дуун ‘непрерывная песня (о жаворонке)’.
Образ жаворонка в мифологических воззрениях бурят
Жаворонок имел небесное начало, его полет коммуницировал сакральную (небо) и профанную (землю) сферы. По мифологическим воззрениям бурят, данное пернатое служило светлым небесным силам. По этой причине его относили к ограниченному кругу птиц, наделяемых высоким семиотическим статусом. К такому выводу можно прийти, обратившись к легенде «Жаворонок» селенгинских бурят-буддистов. В ней повествуется о том, что это пернатое, долго слушавшее молитву (тарни) из книги «Базар биддарна», которую произносил при освящении воды один буддийский монах, стал ее петь нараспев [Смолев, 1902. С. 101]. Там же говорится, что буряты, слыша трели жаворонка, якобы запоминали слова молитвы, а птицу назвали Базар биддарна в честь священного манускрипта. По их представлениям, жаворонок «на заре читает эти тарни и освящает воду своим купаньем», а во время «его пения и полета кверху даже хищная птица боится его убить, сознавая, что он читает божественное» [Там же]. Надо заметить, что в указанной выше легенде дается словесная имитация пения пернатого в форме буддийской молитвы, что подчеркивает сакральный характер жаворонка в мировоззрении бурят. Очевидно, в основу таких представлений легла ассоциация долгой трели самца жаворонка с молитвой монаха. Любопытно, что определенная парал- лель с этим образом прослеживается и у славян (поляков), которые признавали жаворонка чистой, «божьей» птицей и величали певцом Божьей Матери, будто бы возносящим ей в небе молитву «Ave Maria» [Гура, 1997. С. 633–634].
В прошлом буряты давали новорожденным девочкам имя, омоничное названию жаворонка – Булжамуур [Митрошкина, 1987. С. 82]. Полагали, что оно введет в заблуждение нечистую силу и тем самым защитит ребенка. В бурятской эпике птице приписываются магические целебные свойства. Так, Манзан Гурмэн Тоодэй – всезнающая праматерь небожителей, лечит посредством жаворонка:
Она,
Все швы во вселенной сшивающая,
Белого жаворонка в руки взяла,
Золотого зерна ему дала,
Чтобы был он живым, был горячим он,
Чтобы вылечил принцессу Наран Гоохон.
К белой спине принцессы
Она его спиной прикладывает,
К белой груди принцессы
Она его грудью прикладывает.
Все, что велено ему, делая,
Азарга – жаворонок белый (выделено автором. – А. Б. ),
На белой груди принцессы долго лежит,
Болезнь из нее вытягивая – долго лежит,
Яд из нее высасывая – долго лежит,
Колдовство из нее выманивая – долго лежит,
Принцесса из-под жаворонка встала,
Здоровехонька, как ни в чем не бывало
[Гэсэр, 1986. Т. 1. С. 32].
В приведенном фрагменте белое оперение жаворонка указывает, с одной стороны, на мужское начало, а с другой – на принадлежность его к светлым силам неба. При этом следует указать, что это пернатое не было включено в традиционную обрядность бурят, в том числе в шаманские обряды. В народной медицине бурят органы и части тела жаворонка, в отличие от некоторых других птиц, не использовались.
С жаворонком сопряжена идея оборотничества. В эпике и сказочной прозе бурят герои обращаются в эту птицу, например:
После этого
Алма Мэргэн солнцеликая
Новые заговорные слова прошептала,
Превратила себя в легкую птицу,
Жаворонком крылатым стала
[Гэсэр, 1986. Т. 2. С. 172].
В мифологических представлениях бурят серо-пестрое оперение жаворонка явно символизирует женское начало:
Серо-пестрый жаворонок
От поганой завороженной стрелы
Падает вниз.
За три пальца от земли
Остановился, повис,
Снова крылышками встрепенулся
И царевной Наран Гоохон
Обернулся.
На вершине горы,
Отряхнувшись, царевна встала,
До той поры
На земле такой красы не бывало
[Гэсэр, 1986. Т. 1. С. 84–85].
Примечательно, что в приведенном выше фрагменте показано поведение жаворонка в момент опасности, когда хищная птица атакует его в небе: он обычно спасается, совершая резкое падение с высоты. Основными крылатыми охотниками на него являются соколиные, а также булжамуурай харсага ‘букв. ястреб (охотящийся) на жаворонка, ястреб-перепелятник’ ( Accipiter nisus ); последний как противник жаворонка фигурирует в сказке «Храбрый Жэбжэнэй»: «Тогда Шагшага Мэргэн Тайжа превратился в жаворонка и полетел. Жэбжэ-нэй стал ястребом, пустился вдогонку и поймал его» [Бурятские волшебные сказки, 1993. С. 229].
В мифологических суждениях бурят жаворонок отражал природные ритмы. Его прилет, как было сказано, связывали с наступлением тепла: по наблюдениям орнитологов, в ЮгоВосточной Сибири он возвращается к местам гнездования уже в начале марта. Данный факт отложился в эпике бурят, например, этому посвящены следующие строки:
Сорока стрекочет, зима продолжается,
В лисьей шапке Гэсэр в седле качается.
Ветры дуют, снега метут,
Вокруг носа и рта льдинки растут.
Жаворонок вьется – начало лета,
Едет Гэсэр легко одетый
[Гэсэр, 1986. Т. 2. С. 85].
Между тем в эпических произведениях бурят нередко олицетворением прихода весны выступали другие птицы – ворон [Мэньелтэ мэргэн, 1984. С. 22] и представители отряда воробьинообразных (овсянка, зырянка) [Сказания бурят…, 1890. С. 7, 18]. Подобная взаимозаменяемость образов птиц отмечается, например, в сказках славян, при этом она также связывается с пернатыми отряда воробьинообразных (жаворонком, овсянкой, малиновкой и др.) [Гура, 1997].
Жаворонок ассоциировался с определенным временем суток – ранним утром, с его пением, по традиции бурят, хорошая хозяйка должна была вставать и начинать заниматься хозяйством. Такую практику передают традиционные свадебные благопожелания невесте ее родителей. Например, ей желали:
Горячий саломат вари,
Крепкий архи кури,
Со стрекотом сороки утром вставай,
Чай свой кипяти, архи кури,
С пением жаворонка вставай,
Бозо свое кипяти
[Подгорбунский, 1915. С. 101].
Заметим, что в мифологических суждениях разных народов Евразии данное пернатое также связывается с традицией встречи весны [Гура, 1997. С. 637] и соотносится с ранним утром. Отождествление жаворонка с сезонным циклом и ранним утром, вероятно, свидетельствует об ассоциации с понятием времени.
Следует заметить, что, помимо преимущественно положительного восприятия бурятами этой птицы, встречается и его редкая отрицательная коннотация. Так, в сказке «Семь соловых кобылиц Сутая» жаворонок выступал как посланник демонического существа мангадхая [Шаракшинова, 2000. С. 151]. Кроме того, устройство им гнезда прямо на земле или среди камней, вероятно, повлияло на складывание представлений о его хтоническом происхождении (ПМА: С. О. Бильдуев).
Заключение
Представленный материал показывает, что в традиционных мифологических воззрениях бурят жаворонок имел преимущественно положительную характеристику. Его относили к почитаемым птицам, служащим светлым небесным силам. В эпике бурят-шаманистов он предстает помощником праматери небожителей, а в представлениях бурят-буддистов при- знается птицей, возносящей молитву и освящающей воду. Символика цвета, выделяемая в образе данной птицы, отражала прежде всего гендерное деление: белый цвет указывал на мужское начало, серо-пестрый – на женское. С жаворонком у бурят связана идея оборотни-чества. С ним ассоциировали наступление весны и время суток (утро). В образе этого пернатого слабо проявляется отрицательная коннотация (связь с демоническими силами, хтониче-ское начало). Отдельные традиционные представления бурят о жаворонке (например, как крылатом певце религиозных гимнов) имеют аналогии в мировоззрении других народов, что объясняется их универсальным характером.
Список литературы Образ жаворонка в мифологических представлениях бурят
- Бадмаев А. А. Традиционные представления бурят о птицах // Археология, этнография и антропология Евразии. 2020. Т. 48, № 2. С. 113–120. DOI 10.17746/1563-0102.2020.48. 2.000-000
- Бурятские волшебные сказки // Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1993. Т. 5. 341 с.
- БРС – Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь: В 2 т. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010а. Т. 1: А – Н. 636 с.; Т. 2: О – Я. 708 с.
- Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М.: Индрик, 1997. 912 с.
- Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. Т. 1. 288 с.; Т. 2. 288 с.
- Линховоин Л. Л. Лодон багшын дэбтэрhэ. Улан-Удэ: Буряад-Монгол Ном, 2014. 464 с. (на бурят. и рус. яз.)
- Митрошкина А. Г. Бурятская антропонимия. Новосибирск: Наука, 1987. 222 с.
- Мэньелтэ мэргэн. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1984. 138 с. (на бурят. яз.)
- Подгорбунский И. А. Сказания и песни бурят // Изв. ВСОИРГО. 1915. Т. 45. С. 91–107.
- Сказания бурят, записанные разными собирателями
- Смолев Я. С. Бурятские легенды и сказки // Тр. КОПОИРГО. 1902. Т. 4, вып. 2. С. 95–107.
- Шаракшинова Н. О. Улигеры бурят. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 153 с.
- Бильдуев С. О., 1929 г. р., с. Хойтогол Тункинского района Республики Бурятия. Дата записи – июль 2001 г.