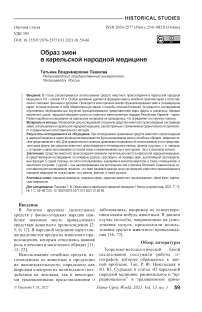Образ змеи в карельской народной медицине
Автор: Татьяна Владимировна Пашкова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье рассматривается использование средств животного происхождения в карельской народной медицине в XIX – начале XX в. Особое внимание уделяется функциям змеи в лечебной практике карел в сопоставлении с вепсами, финнами и русскими. Проводится всесторонний анализ функционирования змеи в этномедицине карел, которая включает в себя оберегательную магию и способы лечения болезней. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения функционирования представителей мира фауны в различных обрядах жизненного цикла, народной медицине одного из коренных малочисленных народов Республики Карелия – карел. Ранее подобные исследования на карельском материале не проводились, что определяет его научную новизну. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили средства животного происхождения (на примере змеи), используемые в карельской народной медицине, рассмотренные с применением сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного методов. Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании применения средств животного происхождения в народной медицине карел автором рассматриваются функционирование змеи в лечебных обрядах, мифологические представления о ней. Для сравнительного анализа привлекаются сведения об использовании этого представителя мира фауны как средства животного происхождения в этномедицине вепсов, финнов и русских, т. е. народов, с которыми у карел прослеживаются тесная связь и взаимовлияние как в культурном, так и в языковом аспекте. Заключение. Средства животного происхождения занимали значительное место в карельской народной медицине. В представленном исследовании это впервые удалось проследить на примере змеи, выполнявшей противоречивые функции. С одной стороны, ее части использовались знахарями в качестве амулетов, а также «помощников» в магических ритуалах, с другой – она рассматривалась как воплощение зла и причина болезней. Сравнительно-сопоставительное исследование показало, что змея занимала важную нишу как средство животного происхождения в народной медицине не только карел, но и вепсов, финнов, а также русских.
Народная медицина, традиции карел, средства животного происхождения, образ змеи, карельская мифология.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218496
IDR: 147218496 | УДК: 392 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.01.59-66
Текст научной статьи Образ змеи в карельской народной медицине
В богатом арсенале целительных средств у финно-угорских народов наиболее значимое место принадлежало средствам животного происхождения [2; 5; 6; 12]. В народной медицине карел также выделяются продукты животного происхождения, которым отводилась важная роль в лечении и магических обрядах [11; 15; 22].
Использование лечебных средств, изготовленных из животных и продукции их жизнедеятельности, определено как широким спектром их целительного воздействия на человека, так и некоторыми традиционными представлениями о заболеваниях, например их олицетворением каким-нибудь животным. В данном случае способы, направленные на уничтожение недуга, предполагали использование средств животного происхождения [16, 75].
Обзор литературы
Теоретико-методологической базой исследования послужили работы этнографов, которые обращались к данной проблеме. Так, Р. Ф. Никольская и Ю. Ю. Сурхаско в статье «О карельской народной медицине: рациональное и “иррациональное” в традиционном враче-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ вании» рассматривают способы лечения болезней с помощью различных средств народной медицины, включая средства животного происхождения [11]. В монографии финляндского исследователя Ю. Пентикяйнена “Marina Takalon uskonto (uskontoantropologinen tutkimus)” («Религия Марины Такало (религиозно-антропологическое исследование)») описываются семейные обряды беломорских карел наряду с прочими проявлениями духовной культуры. Представленные в работе средства и методы лечения обусловлены особенностями климата, природным ландшафтом, хозяйственно-промысловой деятельностью, а также этнокультурными контактами жителей д. Оуланга. Эпизодично автор затрагивает мифологические представления карел о змее [22].
На вепсском материале образ змеи в народной медицине исследует И. Ю. Вино-курова1, акцентируя внимание на символике змеи, ее использовании в лечебных обрядах и оберегательной магии, а также на вере вепсов в то, что она сама может являться источником различных заболеваний [1; 3; 4]. Стоит отметить, что на карельском материале к обозначенной проблеме еще никто не обращался.
Материалы и методы
В качестве лингвистических источников использовались словари карельского языка и образцы карельской речи2. Сборники фольклорных текстов послужили источниками для сбора заговоров3.
При проведении исследования применялись сравнительно-исторический и сравнительно-сопоставительный методы. С помощью сравнительно-исторического метода карельские народные представления о некоторых аспектах народной медицины и похоронно-поминальной обрядности рассматривались как в сравнении внутри этнолокальных групп карел, так и в сопоставлении с традициями других прибалтийско-финских народов, а также русских. Сравнительно-сопоставительный метод был востребован при анализе языкового материала.
Результаты исследования и их обсуждение
Применение в лечебных обрядах средств животного происхождения в ряде случаев основано на принципе «подобное лечится подобным», когда для изгнания болезни используются реальные представители животного мира или средства животного происхождения. Архаическая концепция тождества человеческого и животного подкрепляется тем, что с одинаковыми частями человеческого и животного организмов связаны сходные представления. Это прослеживается в лечебной практике. Как отмечает Н. Е. Мазалова, «некоторые части человеческого тела и животных наделяются особой магической силой, им приписываются лечебные свойства» [10, 106 ].
Развитие народной медицины карел происходило с учетом особенностей растительного и животного мира Карелии. Животный мир составлял богатейший резерв лекарственных ресурсов, а средства и продукты животного происхождения занимали значительное место в народной медицине [7, 74–78 ]. Для лечения болезней карелы использовали кровь, мясо, молоко, шерсть, рога, желудок, половые железы, слюну, кожу, помет, жир и кости различных животных [8, 146 ].
Змея, как и некоторые другие представители мира фауны, например медведь [14], наделялась карелами противоречивыми функциями в народной медицине. С одной стороны, разные части змеи выступали в качестве оберегов и применялись в лечебных обрядах, с другой – она сама являлась «источником» заболеваний. Такие же функции змеи выделяются и у близко- родственного карелам народа – вепсов [3, 153–177].
Вплоть до XIX в. обязательным атрибутом карельского знахаря был ритуальный пояс, в который зашивалась змея. Представления о змее в архаических верованиях многих народов связаны с потусторонним миром. Герой карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнямейнен при посещении загробного мира выскользнул из сетей, преграждавших реку Туонела, приняв облик змеи. Считалось, что душа впадавшего в транс шамана, отделившись от тела, принимает облик змеи, и чем сильнее шаман, тем длиннее змея4. Кроме того, большое значение в религиозно-магических действиях карельских колдунов или знахарей имело умение использовать в качестве «помощников» части тела различных животных (змеи, медведя, белки-летя-ги)‚ растения (рябину, ольху, зерна ячменя), предметы неживой природы (камень), огонь и воду. Обычно для этой цели изготавливались специальные амулеты. Набор таких амулетов, которым приписывались определенные магические свойства, у каждого колдуна был свой. Особенно часто в качестве магических амулетов применялись предметы животного происхождения – череп змеи, когти и зубы медведя, куски меха, щучьи зубы и др.5
В верованиях некоторых прибалтийско-финских народов болезни принимали зооморфный облик. Например, карелы и финны считали грыжу живым «кусающим» существом. Нередко ее представляли в виде змеи или червя, который грызет человеческие внутренности. В 1921 г. от информантов-карел Прионежского района (п. Шуя) были получены сведения, что грыжа - это purijan aluine (‘букв.: настил кусающего’): «она живот вспучивает, опускается и подымается» [19, 145]. Эти данные напоминают воззрения русских, согласно которым грыжа вызывается живым существом, прогрызающим человеческое нутро и принимающим вид опухоли или нароста6. В верованиях славян зооморфным обликом болезни была змея или летающая утка со змеиной головой и хвостом.
Как представительница мира мертвых змея считалась носительницей различных болезней. Именно по этой причине карелы старались не называть ее основным наименованием mado / mato ‘змея’, а заменяли его эвфемизмами, особенно находясь в тех местах, где чаще всего можно было ее встретить: в поле, лесу, роще и др. В карельском языке насчитывается более 25 эвфемизмов, используемых для обозначения змеи: juaveli ‘ руг., бран . черт, дьявол; мифол . злой дух, нечистая сила’, kulkija ‘ходок’7, kulonalaine ‘засохшая прошлогодняя трава’8, moanalaine ‘подземная’9, paha ‘плохой, дурной, нехороший’10, pahalaine ‘бес, дьявол, черт’11, pahačču ‘бес, дьявол, черт’12, pitkänenä ‘длинноносая’13, pöppö ‘бука’14, toppa ‘о змее, которая зимой живет в хлеву’ (ср. muantoppa , liävätoppa ‘невидимый хозяин хлева, которого люди представляли в образе змеи’) [20, 398–399 ; 21, 17 ], viholaine ‘злой, вражеский’15 и др.
Главной причиной заболеваний выступали укус и возникающие после него осложнения. Названия укуса в диалектах карельского языка, при имеющихся локальных особенностях, являются сложными именами существительными, содержащими лексемы ‘змея’ и ‘укус/ ужаление’: mavon/n’okkavo ‘букв.: змеи-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ное ужаление’16, mavon/n’okkoandu ‘букв.: змеиное ужаление’17, mavon/n’okkuamu ‘букв.: змеиное ужаление’18, mavon/pan-du ‘букв.: змеиный укус’19, mavon/pane-ma ‘букв.: змеиный укус’, mavon/puromu ‘букв.: змеиный укус’20.
Последствиями укуса змеи могли быть воспаление, опухоль или почернение конечности. Они фиксировались как тверскими карелами (г. Тверь): jalga ma-vonpuromua puhaldu i mušten’i ‘змеей ужаленная нога опухла и почернела’21, так и ливвиковскими (д. Неккула, Ры-пушкалица): mavonn’okkavo on vihažu, puhaldau jallan ‘укус змеи болезненный, ногу раздувает’22. Данное явление в диалектах карельского языка имеет название mavon/viha , где компонент viha указывает на симптом «нагноение (опухоль) после укуса змеи» (подробнее о компоненте viha в карельских народных названиях болезней см.: [13]): mavonviha mäńi jalgah Omeljam brihaččuzel ‘у сына Оме-лия на ноге появилась опухоль после укуса змеи’ (д. Суоярви); mavonviha puhaldi käin ‘укус змеи руку раздул’ (д. Неккула, Рыпушкалица)23. С таким значением слова viha согласуются и данные словарей Э. Леннрота и М. Агриколы, где лексема упоминается в качестве синонима словосочетания «змеиный яд» [23, 710 ]. Другой причиной появления заболеваний от змеи считалось ее попадание внутрь человека различными способами. Подобные поверья бытовали как у карел, так и у вепсов. Их общими чертами является сюжет о том, что змея заползала в тело уснувшего человека через рот. В некоторых случаях отмечаются и одинаковые последствия этого: длительная изнурительная болезнь и даже смерть24 [22, 243 ].
При лечении змеиных укусов совершались различные магические действия с обязательным произнесением заговоров, в которых обращались к виновнице заболевания. Произнесение лечебного заговора совместно с ритуальными действиями у карел имело целью ottua vihat ‘снять враждебную силу, зло, воспаление’. Карелы снимали зло от железа, дерева, земли, воды, огня, от укуса змеи [9, 133]. При этом в заговорных рунах часто излагались «первородные причины» возникновения болезни‚ поскольку‚ по народным представлениям, тот‚ кто знает «первопричину» явления, может его обезвредить и даже управлять им [11, 115].
Примечательно, что в текстах карельских заговоров от укуса змеи указывается змеиная расцветка: mušta mado ‘черная змея’, kirjava mado ‘пестрая змея’, harmua mado ‘серая змея’. Такие же упоминания окраски характерны и для вепсских заговорных текстов. По мнению И. Ю. Винокуровой, обряд исцеления от змеиных укусов (слова заговора, предметы и даже действия) подбирался в зависимости от цветового вида змеи. Например, у вепсов слова заговора произносили на тряпку (черную, пеструю или серую), соответствующую по цвету окраске змеи [1, 200 ; 4]. В одном из людиковских заговорных текстов (д. Ялгуба) фигурирует синий цвет змеиной головы: Кюи, кюи, те-дян миня кюи колме югексат, кюи емягеш, кюи пя укконш, сини пя емягеш... ‘Змея, змея, знаю я, змея, три девятка (заговоров): змея – твоя мать, главный змей – твой отец, синеголовая (змея) – твоя мать’25.
Чтение заговоров происходило на воду, подсолнечное масло, камень, землю. Карелы п. Кестеньга заговаривали на подсолнечное масло: Mato mušta, muanali, toukka tuomen karvallini läpi mättähien mänijä, puun juurien pujottelija... Kešät venyit hevosen kusissa, talvet tamman šillan alla, alla alahaisen aijakšen ‘Змея черная, подземельная, личинка цвета черемухи, сквозь кочки проходящая, корни деревьев обвивавшая… лето (ты) пролежала в лошадиной моче, зиму – под пологом у кобылы, под нижней жердью изгороди’. Затем давали больному выпить масло (как вариант, воду) или землей мазали место укуса26. После заговора воспаление от укуса змеи спадало: mavovvihat puhuhuu laivenoo27.
Часто в лечебных обрядах, связанных с лечением укуса змеи, фигурирует камень. Например, по представлениям тун-гудских карел, если змея укусила в ногу, надо быстро встать на камень, тогда змея лопнет, а нога сразу пройдет28. Карелы Петрозаводского уезда вставали обязательно на ближайший камень и произносили: «Чур меня! Моя вода, моя земля, мой и камень!» [17, 674]. У северных вепсов тоже исполнялся лечебный обряд с использованием камня: пострадавший прыгал на камень со словами: «Камень пусть идет в камень, а камень пусть идет в воду. Аминь, аминь, аминь!»29 Вставание на камень в данном случае может быть объяснено тем, что камню в силу его неподвижности приписывалось свойство останавливать болезнь. Это подтверждается и частым упоминанием камня в лечебных заговорах30. Однако, на наш взгляд, есть и другое объяснение обряда. В мифологических представлениях финнов и карел небольшие продолговатые приплюснутые камни (фин., кар. käräjäkivi) получили такую форму из-за того, что их обгладывала змея. Найти подобный камень считалось большой удачей, поскольку он помогал от всех болезней и обладал силой оберега. Беломорские карелы верили, что äärmeen suusta saatu kivi on hyvä kai-kkia tauteja ja kiroja vastaan ‘полученный из пасти змеи камень хорошо помогает от всех болезней и против проклятия’. Финны отмечали лечебное действие такого камня при ломоте, поэтому им надавливали на больные места [18, 210].
В верованиях карел, вепсов и финнов некоторые части змеи обладали целительной силой. В карельской народной медицине удалось зафиксировать использование только змеиной крови и кожи. Северные карелы (д. Аконлахти) обвязывали змеиной кожей место собачьего уку-са31. Ливвиковские карелы (д. Сямозеро) кровью змеи смазывали рану после ее уку-са32. Целебными свойствами наделялись предметы, орудия труда и части тела человека, которые соприкасались со змеей. Известно, что хождение по спине больного радикулитом являлось своеобразным массажем для избавления от этого недуга. Жители д. Эссойла верили, что больную спину должен «помассировать» именно тот человек, который только что ногой убил змею. При образовании рожистого воспаления на груди кормящей женщины действенным средством считалось надавливание на больное место топором, которым убили змею [18, 107 ]. По представлениям ливвиковских карел, mavon tapat, ga nel’l’ikymen riähkiä pros’t’iheze ‘убьешь змею – искупишь сорок грехов’33.
Заключение
Таким образом, в народной медицине карел значительное место занимали средства животного происхождения. В данном исследовании это впервые удалось проследить на примере змеи, функции которой имели противоречивый характер. С одной стороны, части змеи использовались знахарями в качестве амулетов, а также «помощников» в магических ритуалах. Змеиная кожа и кровь наделялись целительной силой при лечении собачьего укуса и рожистого воспаления. Кроме того, целебными считались орудия труда, части тела человека, которые соприкасались со змеей во время ее уничтожения. Особой силой на-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ делялся небольшой продолговатый камень, который, согласно верованиям карел, получал такую форму вследствие обгладывания змеей. С другой стороны, змея воспринималась как воплощение зла и причина болезней. Лечение основывалось на произнесении «противозмеиных» заговоров, в которых происходило упоминание мест обитания змей, их цветового разнообразия.
Сравнительно-сопоставительное исследование показало, что в народной медицине не только карел, но и вепсов, финнов, а также русских змея занимала важную нишу как средство животного происхождения.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ кар. – карельский язык фин. – финский язык
Original article
DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.01.59-66
ISSN 2076-2577 (Print), 2541-982X (Online)

Список литературы Образ змеи в карельской народной медицине
- Винокурова И. Ю. Вепсские заговоры от змей как источник для реконструкции мифологических представлений // Историко-культурное наследие вепсов и роль музея в жизни местного сообщества: сб. науч. тр. по итогам междунар. конф., посвящ. 40-летию Шелтозер. вепс. этногр. музея. Петрозаводск, 2008. С. 196–205.
- Винокурова И. Ю. Вепсы. Народная медицина // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 478–490.
- Винокурова И. Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов: (опыт реконструкции). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 448 с.
- Винокурова И. Ю. Символика змеи в вепсских заговорах // Традиционная культура: науч. альм. 2006. № 2 (22). С. 30–43.
- Зайцева Е. Н. Народная медицина удмуртов: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2004. 25 с.
- Иванова Г. И., Попов Н. С. Народная медицина // Марийцы: ист.-этногр. очерки. ЙошкарОла, 2005. С. 237–243.
- Карелы Карельской АССР. Петрозаводск: Карелия, 1983. 288 с.
- Карельская АССР: Природа, хозяйство. Петрозаводск: Карелия, 1986. 279 с.
- Лавонен Н. А. Заговоры в кругу религиозномагических представлений карел (по материалам экспедиций 1975−1984 гг.) // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1988. С. 130−139.
- Мазалова Н. Е. Народная медицина в современной севернорусской деревне // Этнографическая наука и этнокультурные процессы: Способы взаимодействия: сб. ст. СПб., 1993. С. 99−112.
- Никольская Р. Ф., Сурхаско Ю. Ю. О карельской народной медицине: рациональное и «иррациональное» в традиционном врачевании // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 103–121.
- Никонова Л. И. Традиционная медицина тюркских народов Поволжья и Приуралья как часть системы их жизнеобеспечения. Рузаевка: б. и., 2000. 156 с.
- Пашкова Т. Компонент viha в карельских народных названиях болезней // Linguistica Uralica. 2019. Vol. 55, no. 1. P. 22–25.
- Пашкова Т. В. Рациональные и иррациональные способы лечения заболеваний у карелов с применением средств животного происхождения (на примере медведя) // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. 2018. № 4 (61). С. 62–66.
- Пашкова Т. В. Средства животного происхождения в карельской народной медицине // Гуманитарные науки и образование. 2016. № 3. С. 140–145.
- Семенцов М. В. Использование средств и продуктов животного происхождения в народной медицине кубанских казаков // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. Дикаревские чтения (9). Краснодар, 2003. С. 75−90.
- Суеверия и предрассудки в простом народе // Олонецкие губернские ведомости. 1885. № 76. С. 673−674.
- Kansanomainen lääkintätietous / toim. M. Hako. Helsinki: SKS, 1957. 255 s.
- Manninen I. Kansanomaisen tautiopin alalta // Kalevalaseuran vuosikirja. 1933. No. 13. S. 141– 152.
- Nirvi R. E. Eräistä likaa ja rikkaa merkitsevien sanojen käyttötavoista // Virittäjä. 1950. No. 54. S. 398−424.
- Nirvi R. E. Sanankieltoja ja niihin liittyviä kielenilmiöitä itämerensuomalaisissa kielissä riistaja kotieläintalous. Helsinki: SKST, 1944. 343 s.
- Pentikäinen J. Marina Takalon uskonto (uskontoantropologinen tutkimus). Helsinki: SKST, 1971. 388 s.
- Vuorela T. Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo; Helsinki: WSOY, 1975. s. 776