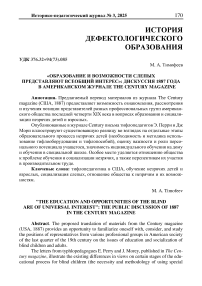«Образование и возможности слепых представляют всеобщий интерес»: дискуссия 1887 года в американском журнале The Century Magazine
Автор: Тимофеев М.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История дефектологического образования
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемый перевод материалов из журнала The Century magazine (США, 1887) предоставляет возможность ознакомления, рассмотрения и изучения позиции представителей разных профессиональных групп американского общества последней четверти XIX века в вопросах образования и социализации незрячих детей и взрослых. Опубликованные в журнале Century письма тифлопедагогов Э. Перри и Дж Мори иллюстрируют существовавшую разницу во взглядах на отдельные этапы образовательного процесса незрячих детей (необходимость и методика использование тифлооборудования и тифлопособий), оценку важности и роли персонального потенциала учащегося, значимость индивидуального обучения на дому и обучения в специальной школе. Особое место уделяется отношению общества к проблеме обучения и социализации незрячих, а также перспективам их участия в производительном труде.
Тифлопедагогика в США, обучение незрячих детей и взрослых, социализация слепых, отношение общества к незрячим и их возможностям
Короткий адрес: https://sciup.org/140312114
IDR: 140312114 | УДК: 376.32+94(73).085
Текст научной статьи «Образование и возможности слепых представляют всеобщий интерес»: дискуссия 1887 года в американском журнале The Century Magazine
Введение . Последняя четверть XIX века стала в США временем достаточно активного общественного обсуждения проблем образования, воспитания и социальной адаптации детей и подростков с нарушениям в развитии. Этому способствовал целый ряд причин, в том числе связанных с бурной эволюцией системы специального образования и ее обеспечения. Открытие брайлевской типографии в Луисвилле в 1879 году, детского сада при Институте (школе) Перкинса для слепых в 1887-м, открытие в 1896 г. первого вспомогательного класса для детей с легкой умственной отсталостью, создание профильных ассоциаций, открытие учебного заведения по подготовке педагогов для глухих детей – все это, с учетом возможностей и того места, которое занимала периодическая печать в жизни общества, не могло не превратить газеты и журналы в площадку для обсуждения проблем обучения, воспитания и социализации детей с нарушениями в развитии. Тема слепых также на протяжении 80-х гг. XIX века находилась в центре внимание, а палитра мнений и предложений нашла свое отражение на страницах журнала The Century magazine.
Материалы и методы. Цель предлагаемого материала – предоста- вить оригинальный исторический источник для работ по истории тифлопедагогики в США. Задача – введение в научный оборот ранее не известной для отечественной аудитории и не используемой документальной базы.
В качестве материала для публикации выбраны открытые письма по проблемам тифлопедагогики, опубликованные в течение 1887 года в американском журнале The Century magazine. Перевод с английского выполнен по оригиналу журнального издания.
Результаты исследования. Тематика обучения и воспитания незрячих, их трудоустройства и социализации в более широком смысле, отношения самого общества к людям с нарушениями в развитии зрения неоднократно звучала на страницах американской периодики конца XIX века. Этому способствовала относительная давность существования образовательных учреждений для слепых в стране. Так, уже более полувека успешно работал основанный Сэмьюэлом Хоу Институт Перкинса для слепых в Бостоне (с 1829 г.). По его образцу в 1832 и 1839 гг. открывают институты для слепых в Нью-Йорке и Филадельфии, затем – штатах Огайо, Кентукки, Мэриденд и др. Создаются свои методики обучения, своя система рельефного шрифта, активно разрабатываются наглядные пособия. В последней четверти столетия система специального образования для слепых была в основных чертах оформлена, однако, как и остальные направления специальной педагогики, она была важным вопросом социальной повестки для общества. Поэтому периодические издания нередко становились той актуальной и влиятельной трибуной, выступления на которой помогали не только привлекать внимание к проблеме и обсуждать ее, но и формировать общественное сознание в целом.
В 80-е годы XIX века на страницах The Century magazine часто появлялись материалы, связанные со специальным образованием. Выбор трибуны во многом объяснялся популярностью издания и широтой охвата самой разной читательской аудитории – по состоянию на 1889 год его тираж достиг 200 000 экз. (для сравнения, тираж схожего по концепции русского журнала «Вокруг света» составлял на тот момент около 4 000 экз.). Возникший при поддержке Томаса Эдисона и Александра Грэхема Белла, он печатал в разные годы не только произведения Марка Твена, Джека Лондона, Фрэнсиса Кроуфорда, статьи Альберта Эйнштейна, но и материалы по педагогике и образованию, в том числе, касавшиеся положения и образования людей с нарушениями в развитии.
Это были статьи о Елене Келлер и Лоре Бриджмен, о специфике общения с глухими, о предотвращении слепоты у детей и пр. А в ряде номеров за 1887 год в рубрике «Открытые письма» была опубликована серия статей Эдварда Перри и ответ преподавателя Института Перкинса для слепых Дж. Мори.
Три письма Э. Перри были посвящены целому спектру проблем, связанных с обучением и воспитанием слепых детей. Будучи незрячим, он делал особый акцент на специфику восприятия слепых зрячими и, как следствие, на выбор схем и подходов к обучению слепых, на правильное восприятие незрячего ребенка, его отношения к жизни, потенциала со стороны обладающих зрением.
Так, Перри утверждал, что зрячие педагоги даже в школах для слепых не могут полностью проникнуться состоянием и проблемами человека, потерявшего зрение. И происходит это в силу объективного недопонимания.
Перри весьма доходчиво развенчивает устойчивый миф о возможности зрячего поставить себя на место слепого. Он отмечает, что у незрячего сформированы иные понятия и что он живет в иной системе образов и представлений, чем человек видящий. И картина мира слепого иная, но по многим параметрам не уступающая картине мира зрячего.
Кроме того, в его системе аргументации важное место занимает крайне актуальный и сегодня тезис о необходимости всемерного развития компенсаторных навыков, памяти и, главное – самостоятельности в слепом ребенке. Слепому надо доверять, видеть в нем обычного человека, пусть и со своей спецификой, не мешать ему, не проявлять чрезмерную осторожность – и тогда он разовьется в полной мере. Помогите незрячему ребенку стать независимым, пишет Перри, и это станет первым условием его счастья. Он всемерно выступает за развитие природной склонности и способностей такого ученика. Что благоприятно скажется и на выборе практических занятий в жизни.
При этом автор уверен, что, несмотря ни на что, система специального образования в США – в отличие от Европы – гораздо более жизнеспособная, привлекательная и перспективная. Хотя, безусловно, в настоящее время в ней встречаются школы, культивирующие «неверное» отношение к слепым. Вместе с тем он выступает за приоритет воспитания слепого ребенка в семье, допуская его пребывание в образовательном учреждении только в самом раннем возрасте.
Собственно, ответ представителя Института Перкинса Дж. Мори стал ожидаемой реакцией на этот последний тезис. Не оспаривая общественно-психологические аспекты и выводы Э. Перри, он фактически формулирует, сопровождая примерами, один ключевой тезис: обучение слепых детей в специализированной школе эффективно, так как они там обучаются и развиваются под руководством профессиональных педагогов, обладающих методической и инструментальной базой.
Обсуждение результатов. Положения, аргументация, выводы и рекомендации, содержащиеся в предложенных выше материалах, позволяют выявить специфику становления системы обучения и воспитания слепых в XIX в. в США, а также получить материал для проведения сравнительно-исторического исследования в этой сфере.
Публикация перевода оригинальных источников способствует реконструкции важного эпизода истории мировой специальной педагогики и тифлопсихологии, предоставляя вместе с тем возможность практического применения в формировании корректного восприятия зрячими незрячих людей и сегодня.
Заключение. Материалы открытой дискуссии в американском журнале The Century magazine по вопросам образования слепых, тифлопсихологии, общественного восприятия незрячих людей показали, что в 80-е годы XIX в. эти процессы развивались в США самостоятельно, пусть и с некоторым учетом опыта Западной Европы, что проблемы людей с нарушениями развития, формирование и эволюция системы специального образования, их включение в общественную жизнь находились в общегосударственной повестке и были известны широкой общественности и что обозначавшиеся на страницах издания подходы в обучении, воспитании слепых детей, в отношении к ним были направлены на формирование самостоятельного, активного, деятельного, обладающего профессией человека, ведущего полноценную жизнь, абсолютно (за исключением объективных «технических» моментов) не уступающую жизни физически здорового человека.
***
Эдвард Б. Перри Образование слепых 1
I. Слепые в детстве
Несмотря на внимание, уделяемое этой теме в последние два-три десятилетия активными и филантропически настроенными людьми, а также на отличную работу, проводимую в определённых направлениях и в определённых пределах во многих государственных учреждениях, этот вопрос всё ещё понимается весьма несовершенно даже теми, кто занимается им специально, и почти совсем не известен широкой публике. Между тем, это вопрос, представляющий почти всеобщий интерес. Сравнительно мало семей в этой или какой-либо другой стране, которые рано или поздно, прямо или косвенно, не сталкивались бы с необходимостью проявить свои мысли и сочувствие в отношении какого-либо страдающего члена семьи, друга или знакомого, к которому, не зная о возможностях и о том, что бывает, они испытывают чрезмерное сострадание, излишне мрачные и безнадёжные чувства.
Опыт и наблюдения многих лет позволяют мне говорить на эту тему с определённым, четким и личным знанием дела; и хотя я вовсе не намерен, да и, возможно, не смог бы сформулировать полную систему обучения и воспитания для лишённых зрения, я, быть может, с помощью нескольких практических советов смогу добавить немного света в некоторые омрачённые трагедиями жизни, сделать менее ужасающим шум жизненной борьбы для тех, кто вот-вот вступит в неё на крайне невыгодных условиях, или сообщить проблеск надежды тяжёлому сердцу какой-нибудь растерянной матери, которая хотя бы увидит для своего ребёнка возможность радостного и светлого будущего, вместо того, чтобы быть погребённым заживо во мраке полуночи, поражённым проклятием бесполезной, безрадостной зависимости. Такова его судьба сейчас в глазах матери. Если мне удастся оказать помощь или утешение хотя бы кому-то из них, мой труд окажется не напрасным.
Главная и, возможно, неизбежная трудность в прошлом на пути к более удовлетворительным результатам в обучении слепых как особой группы, заключалась в том, что большинство теоретических изысканий и экспериментов, а также практическая работа в этом направлении выполнялись зрячими людьми. Последние никогда не могут полностью избавиться от определённых предубеждений и недопониманий в отношении тех, кто находится под их опекой, и не способны до конца проникнуться их реальным положением и настоящими потребностями. Многие из них были умными и искренне преданными своему делу, и некоторые действительно предлагали весьма разумные проекты и изобретательные приспособления для улучшения положения и
– P. 633–636. Этот и последующие тексты опубликованы в рубрике «Открытые письма».
повышения комфорта своих учеников и подопечных; но большинство сбивалось с пути из-за ошибочных представлений о состоянии, с которым им приходилось иметь дело, что делало их самые добрые усилия бесплодными.
Кроме того, немало было и фантазёров или упрямых энтузиастов, чудаков всех мастей, которые либо использовали этот вид благотворительности как лёгкий способ заработать на жизнь, либо рассматривали своих подопечных лишь как подходящие и законные объекты для всевозможных экспериментов – психологических и физических, от фанатичной религиозности до гидротерапии.
Некоторые из теорий, воплощённых на практике вопреки здравому смыслу людьми, которых поддерживает государство и одобряет общественность, были бы безмерно смешны, если бы их результаты не были так печальны. Например, директор крупного и хорошо финансируемого учреждения для слепых в Неаполе утверждает, что все незрячие должны пребывать в полном неведении относительно зрения; что ради справедливости и милосердия им никогда не следует позволять узнать, чего они лишены, – то есть, им не должно быть позволено встречать в специально подготовленной литературе или беседах какие-либо упоминания о свете, цвете или любых чисто зрительных явлениях; короче говоря, им не следует рассказывать ни о чём, что они не могут услышать, попробовать на вкус или потрогать; они должны жить в огромных монастырских приютах, на началах благотворительности, чуждые любому опыту реальной жизни – картины, пейзажи, само зрение для них должны быть неизвестны даже по названию. Если довести эту теорию до логического конца, трудно понять, как вообще кому-то вне стен сумасшедшего дома могла прийти в голову подобная мысль, и тем более – как можно было бы придерживаться её хоть мгновение. Тем не менее, сегодня более трёхсот несчастных обучаются, как это называется, в соответствии с этой теорией.
Другой директор подобного учреждения в Германии недавно сказал автору, что «молитва и христианское смирение» – это единственное, чему слепые могут научиться или что могут практиковать; что для них, как и для прокажённых в древности, жизнь в этом мире окончена, и их долг и привилегия – как можно раньше подготовиться к следующей; что любые попытки существенно изменить их положение не только совершенно бесполезны, но и равносильны бунту против ограничений, установленных для них свыше. Поэтому в его учреждении главным и единственно важным занятием учеников было становиться на колени каждые полчаса по звонку и бормотать набор бессмысленных молитв, выученных наизусть, чтобы, как утверждал их рассудительный наставник, сделать их более довольными своей участью и смиренными перед её неизбежными ограничениями, с которыми, как и многие другие, он был вполне согласен – но только для других людей.
В Америке условия, перспективы и образовательные возможности этой многочисленной группы, конечно же, неизмеримо превосходят европейские. Там, даже для случайного наблюдателя, перспективы кажутся безнадёжными и душераздирающими; здесь же ситуация содержит множество обнадёживающих моментов. Наш здравый национальный смысл помогает нам быть лидерами в этом, как и во многих других практических вопросах; однако нам ещё многое предстоит испытать и доказать.
Важным источником недопонимания и, как следствие, неправильного подхода к слепым, особенно к детям, является преувеличенное сочувствие и жалость, которые испытывают и выражают по отношению к ним родители, учителя и другие. Для тех, для кого полная темнота ассоциируется с душевной подавленностью, смутным страхом и полной физической беспомощностью, естественно предположить, что никогда не видеть света – значит испытывать явные, острые и постоянные страдания. Для них это, по крайней мере, какое-то время было бы так; и они не могут понять, насколько обстоятельства меняют ситуацию. Слепой ребёнок ничего не знает об этом чувстве и никогда бы не узнал, если бы его не внушали ему глупой, чрезмерно усердной добротой окружающих. Он привык к своему состоянию, почти забыл или никогда не знал другого, и живёт своей жизнью в её необходимых границах вполне довольный, не ощущая никакой нехватки, кроме как в моменты, когда ему приходится преодо- левать какие-то практические трудности, или, гораздо чаще и болезненнее, когда ему об этом напоминают неосторожные замечания и поведение других. Много дней, которые могли бы пройти для него в радости, наполненные игрой или учёбой, без единой мысли о своём несчастье, становятся омрачёнными и испорченными из-за нескольких неуместных, неосторожных слов какого-нибудь доброжелателя или любопытного соседа. Ведь он, как правило, особенно чувствителен к этому вопросу.
Хотя целью самого ребёнка и его опекунов должно быть преодоление этой тенденции, сделать это невозможно, если постоянно и бездумно раздражать его «больное место». Оставьте его в покое; относитесь к нему и думайте о нём так, как если бы он ничем не отличался от других детей, и он действительно станет гораздо менее отличаться, чем вы думаете. Предположите, что он должен чувствовать, думать и радоваться, как и другие, – и он удивит вас ясностью своих восприятий, точностью интуиции и полнотой участия в том, что, как вам казалось, было совершенно вне его досягаемости. Помогайте ему забывать или игнорировать, а не осознавать и оплакивать свою инвалидность; не избегая тревожно каждой темы, связанной со зрением, а молчаливо признавая, что у него есть другие, не обязательно худшие, способы получать те же впечатления от внешнего мира, что и у вас, – что в целом соответствует истине. Так вы внесёте вклад не только в его практическое благополучие и личный комфорт, но и в хорошее мнение о вашем такте.
Здесь стоит отметить, что человек, страдающий от слепоты или другого физического недуга, всегда способен оценить вкус и воспитанность окружающих по тому, сколько времени им требуется, чтобы перейти к этой, для него неприятной, теме. У грубого, необразованного человека это первое и почти единственное, о чём он говорит; другие подводят к этому более или менее изощрёнными окольными разговорами, проявляя грубое любопытство под тонкой вуалью разной степени прозрачности. Лишь немногие способны полностью обойти эту тему стороной, и такие люди особенно ценятся. Сообщается, что Фред Дуглас сказал: «Я считаю мистера Линкольна самым достойным джентльменом из всех, кого я встречал, потому что он единственный, кто никогда прямо или косвенно не напоминал мне о моём цвете кожи», – замечание глубокое и заслуживающее внимания.
Ещё одним серьёзным препятствием для полноценного развития слепых является чрезмерная осторожность их друзей и необоснованное, недоверчивое отношение к их способностям, с которым им приходится сталкиваться повсюду и либо бороться с ним с почти сверхчеловеческой энергией, либо, увы, слишком часто поддаваться ему. Вспоминается человек, который, всю жизнь выписывая одну и ту же местную газету, настолько привык к ней, что не смог поверить, будто его сосед, подписанный на другую, может быть осведомлён о текущих событиях или способен судить о чём-либо просто потому, что его связь с миром осуществляется через другой источник.
Те, кто всю жизнь привык полагаться на зрение во всём – от изучения философии и Писания до завязывания шнурков, – не могут понять, что слух и осязание при должной практике могут служить почти всем тем же целям не хуже, а иногда даже лучше. Например, если они не могут с первого раза найти дверь своей гостиной, когда внезапно гаснет свет, им кажется невероятным, что человек без зрения может свободно и безопасно передвигаться по большому городу в одиночку; однако ему самому так же трудно поверить или понять, что они могут определить, сквозь стекло закрытого окна, сколько человек едет в проезжающей карете или горит ли газ на другой стороне комнаты. Оба судят, исходя из ограниченного личного опыта, что является весьма ненадёжным критерием, когда речь идёт о вещах вне его пределов.
Дело в том, что слепой ребёнок, если ему дать возможность, сам найдёт или разовьёт способы делать почти всё то же, что делают другие, – по-своему и, правда, с несколько большими усилиями, но вполне достаточно для всех практических нужд и для собственного удовлетворения. Если его не ограничивать на каждом шагу, не предугадывать каждое его желание и попытку, не предостерегать и не мешать каждому самостоятельному действию, то незрячий ребёнок постепенно обретёт такую независимость, которая столь же естественна и необходима для его благополучия, сколь и удивительна для его чрезмерно заботливых друзей. И здесь снова – оставьте его в по- кое; пусть он сам справляется со своими нуждами, находит свои ограничения, испытывает и развивает свои способности. Пусть сам ищет потерянные игрушки, даже если делает это медленно и ваше терпение испытывается до предела при этом зрелище. Пусть он нащупывает их; в следующий раз это займёт вдвое меньше времени, а через десять лет он найдёт уроненную монету или запонку так же быстро, как и вы. Пусть он сам обслуживает себя за столом, в туалете и во всех случаях, как это делают другие. Пусть ходит один не только по дому и двору, что многим кажется удивительным, но и по улицам города или посёлка – везде, куда разрешено ходить его сверстникам. Поощряйте его соревноваться с ними во всём, за что бы они ни брались – физическом или умственном, – и он, скорее всего, не раз удивит вас, превзойдя их. Одним словом, помогите ему стать независимым – это первое условие его счастья, краеугольный камень его жизни, основа её гармонии.
По-настоящему счастлив тот, кто, вступая в жизненную борьбу с удвоенными трудностями, с собственными силами, ослабленными такой немощью, оказывается благословлён матерью, обладающей не только сердцем, но и умом, способной обуздать материнскую привязанность и страхи ради дальновидного плана на благо ребёнка. В подтверждение сказанного и в поддержку таких матерей, которые только начинают подобный путь, автор может позволить себе заметить, что благодаря такому разумному воспитанию он смог, не имея ни воспоминаний о зрении, ни помощи от него, и без существенной поддержки со стороны каких-либо учреждений или учителей, на равных и успешно соревноваться со своими сверстниками не только в разных классах государственной школы и в высших академических дисциплинах, но и в большинстве физических упражнений и развлечений, таких как плавание, катание на коньках, бег, гребля и т. д.; ездить верхом в одиночку в радиусе десяти миль от своего пригорода; словом, принимать активное участие почти во всех занятиях и забавах, доступных другим мальчикам. Позже – путешествовать одному по большей части этой страны и Европы, бродить по улицам многих иностранных городов, наслаждаясь их языками и обычаями. Хотя для этого, безусловно, требовалось большее внимание, острота и быстрота восприятия, чем обычно требуется, это не делало опыт менее полезным или приятным, и всё происходило с такой же свободой, безопасностью и комфортом, с небольшим числом неудач или неудобств, чем у обычного путешественника. Это лишь ещё одно подтверждение старой истины: к Риму ведёт не одна дорога, и к цели можно прийти разными путями, если искать их с настойчивостью
Часто задают вопрос: каким образом человек, не способный видеть, находит дорогу с места на место, узнаёт, когда нужно повернуть за угол, или даже просто держится на тротуаре и т. д.? Известно, что подобной способностью в той или иной степени обладают большинство слепых, но что это за способность и насколько далеко она может быть развита, понимают немногие; даже среди тех, кто ею пользуется и для кого это обычное, повседневное явление, мало кто сумел её удовлетворительно проанализировать. Хотя объяснить эту способность тем, кто ею не обладает, так же трудно, как объяснить слепому различие цветов или само зрение, я попробую дать некоторое представление об этом для тех, кто хочет узнать для себя или других.
Это не состоит, как иногда думают, в искусном пользовании тростью или в точном запоминании расстояний, хотя и то, и другое может быть вспомогательным средством. Эта способность возникает из сочетания слуха и осязания, оба из которых развиваются до необыкновенной тонкости и привыкают к необычным задачам, в результате чего формируется нечто вроде шестого чувства, столь же инстинктивного, мгновенного и надёжного в действии, как и любые из привычных пяти. Для примера: если вы быстро идёте по тихой улице и внимательно прислушиваетесь к своим шагам, вы заметите, что сплошные здания и стены, расположенные близко к тротуару, дают отчётливое эхо, которое мгновенно исчезает на открытых пространствах и перекрёстках. Для слепого это эквивалент света и тени и является в самом зачатке первым элементом упомянутого «шестого чувства». Ещё пример: если вы медленно идёте в темноте к стене или закрытой двери, то почувствуете, прямо перед тем как столкнуться с ней, на чувствительных нервах открытой части лица лёгкое ощущение, похожее на то, кото- рое мог бы вызвать бесконечно тонкий и лёгкий газовый (паутинный) покров. Это вызвано увеличением давления или сопротивления упругого воздуха, когда он сжимается между двумя твёрдыми телами при их сближении. Повторите эксперимент – и заметите, что это ощущение возникает на большем расстоянии, чем сначала. Это – зародыш второго элемента, о котором уже говорилось. Эти два восприятия, сливаясь в одно сознание и доведённые до совершенства многолетней практикой, позволяют человеку на значительном расстоянии замечать любые препятствия на пути, определять размер и примерную форму проходящих объектов, определять высоту стены, не прикасаясь к ней; словом, замечать все ориентиры, необходимые для передвижения или поиска нужного места.
Эта способность, основанная на простых, хотя и обычно малоизвестных законах природы, в различных своих проявлениях является источником большинства кажущихся удивительными поступков, совершаемых незрячими людьми в этой области. Для них она настолько привычна, так тесно вплетена в повседневную жизнь, что её использование становится инстинктивным и бессознательным, и слепые едва ли осознают, что другие достигают тех же результатов иным способом. Эта способность поддаётся почти безграничному развитию. Автор знает нескольких человек, помимо себя, которые могли считать деревья вдоль дороги, мчась галопом по улице, определять разницу между сплошным и решётчатым забором, расстоя- ние от зданий до дороги и т. д. Положение углов, ворот и тому подобного определяется ещё проще. При ходьбе всё, конечно, гораздо ближе, и задача становится значительно легче. Так, каждое изменение тротуара или забора, каждая неровность под ногами или даже самый маленький столбик у дороги служат ориентиром, столь же надёжным и определённым, как здания или указатели для зрячего.
Единственное, что серьёзно мешает использованию этой способности, – это сильный ветер, который не даёт почувствовать разницу в плотности воздуха, и постоянный монотонный шум, например, грохот машин или быстрый стук колёс по твёрдой дороге, который заглушает все эхо. Вот что создаёт настоящую «темноту». Поэтому, хотя многие могут ездить верхом легко и безопасно, я никогда не встречал никого, кто мог бы управлять экипажем, и не думаю, что это когда-либо станет возможным. Также скажу, что тачки, тележки и прочие предметы, оставленные на пути небрежными мальчиш- ками, – настоящее проклятие для слепого. Они не издают шума, не отражают эхо и не достаточно высоки, чтобы предупредить о своём присутствии через кожу; но, какими бы скромными и неприметными они ни были, они могут стать серьёзной причиной для спотыкания на пути мирного пешехода.
За исключением этих препятствий, которые, в конце концов, не хуже, чем быть привязанным к свече половину жизни, можно довольно легко обходиться без зрения во многих делах. Так что, мужайтесь, опечаленные матери, унывающая молодёжь! Чем больше трудностей, тем слаще победа. Пробуждайте амбиции; стремитесь не просто сравняться, а превзойти то, что делают другие, имея лучшие возможности – сначала в мелочах повседневной жизни, затем в более важных делах. То, что уже было сделано, может быть сделано снова; а то, чего ещё не делали, не обязательно невозможно, а, напротив, тем более достойно попытки.
Окончание в следующем номере.