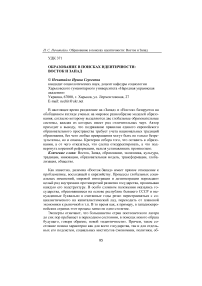Образование в поисках идентичности: Восток и Запад
Автор: Нечитайло Ирина Сергеевна
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время разделение на «Запад» и «Восток» базируется на обобщенном взгляде ученых на мировое разнообразие моделей образования, согласно которому выделяются две глобальные образовательные системы, каждая из которых имеет ряд отличительных черт. Автор приходит к выводу, что подражание правилам единого европейского образовательного пространства требует учета национальных традиций образования, без чего любые превращения могут быть не только безрезультатны, но и опасны. Критерии отбора того, что оставить в образовании, а от чего отказаться, что слегка откорректировать, а что подвергнуть коренной реформации, нельзя устанавливать произвольно.
Восток, запад, образование, экономика, культура, традиции, инновации, образовательная модель, трансформации, глобализация, общество
Короткий адрес: https://sciup.org/148317046
IDR: 148317046 | УДК: 371
Текст научной статьи Образование в поисках идентичности: Восток и Запад
Как известно, дилемма «Восток-Запад» имеет прямое отношение к проблематике, восходящей к евразийству. Процессы глобальных социальных изменений, мировой интеграции и дезинтеграции порождают целый ряд внутренних противоречий развития государства, пронизывая каждую его подструктуру. В особо сложном положении оказались государства, образовавшиеся на основе республик бывшего СССР и вынужденные буквально в считанные годы резко перестраиваться с социалистического на капиталистический лад, переходить от плановой экономики к рыночной и т.п. В то время как, к примеру, в западноевропейских странах этот процесс занял не одно столетие.
Эксперты отмечают, что большинство стран постсоветского лагеря до сих пор пребывает в переходном состоянии, в поисках нового образа будущего, говоря образно, новой «идентичности». Причем, такое состояние поиска характерно как для всего государства, так и для отдельных его подсистем, социальных институтов (экономики, политики, об- разования и др.). В рамках данной статьи мы предлагаем погрузиться в проблематику образования.
После распада Советского Союза все без исключения страны, до этого входившие в состав одного государства, оказались в состоянии «подвешенности» между идеалами прошлого и перспективными образами будущего, состоянии неопределенности в отношении того, стремиться ли к восстановлению этих идеалов или двинуться реформационным путем. Такая дилемма стала определяющей в деятельности всех социальных институтов, в том числе и института образования, который также оказался на перепутье межу Востоком и Западом.
В основе разделения на «Запад» и «Восток» лежит обобщенный взгляд ученых на мировое разнообразие моделей образования, согласно которому выделяются две глобальные образовательные системы. В англоязычных неевропейских странах: США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии за основу взята Западная модель. Здесь доминирует индивидуальный подход к обучающимся, при котором учебное заведение выполняет не только образовательные функции, но и социальные (социализирующие). Семья же является носителем материальных благ и не влияет на учебный процесс. В развитых странах Азии действует другая система: обучение основано на групповом принципе, главный упор в процессе образования делается на академические дисциплины, в то время как социальные навыки прививаются ребенку в семье. Такая модель носит обобщающее название «Восточная» и считается, что азиатскими странами она была позаимствована именно у СССР.
В современной Европе попытались пойти по третьему пути, взять у Западной и Восточной моделей все самое лучшее, полезное и объединить в рамках целостной образовательной модели, на что и ориентирован Болонский процесс [2].
Однако очевидным является то, что с началом постсоциалистической трансформации в отечественную систему образования все активнее и настойчивее внедряются элементы Западной модели, в то время как Советская (по сути - Восточная) модель образования подвергается жесткой критике со стороны демократов. Нужно сказать, критика не безосновательна, хотя скорее деструктивна, чем конструктивна.
Что мы заимствуем у Западной модели образования? Что с первого взгляда вроде бы не так уж и плохо? Во-первых, это плюрализм идей, мнений и подходов; возможность их безболезненного совместного существования на правах истины. Для Восточной модели образования подобный плюрализм был абсолютно неприемлем. Считалось, что мысль, рожденная на пересечении множества мнений, должна обязательно прийти к единству действий, отбросив изначальную плюрали-
И. С. Нечитайло. Образование в поисках идентичности: Восток и Запад стическую оболочку. Каждому учителю, преподавателю стоит задуматься над этим положением прежде, чем реализовывать данную идею на практике. Плюрализм обязательно должен быть, иначе не будет развития ни критического мышления, ни творческих способностей. Но следует задуматься о возведении каких-то рамок разнообразия. Иначе и вовсе теряется смысл обучения, особенно если дело касается неточных наук, дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Во-вторых, у Западной модели образования мы заимствуем либерализм и раннюю специализацию. Конечно, сама идея замечательна. Свобода выбора, действительно, может пойти на пользу, если человек твердо решил посвятить свою жизнь определенной профессии, понимает, в каких именно знаниях он нуждается, и какие именно науки, предметы, учебные курсы ему необходимы. Именно их он, по идее, и должен выбрать. В условиях повышенной социальной нестабильности и неопределенности, в которых пребывает сегодня каждый житель нашего государства, прогнозировать, планировать свое будущее – задача непростая. Да и дело далеко не только в объективных факторах. Большинство выпускников школ, желающих продолжить свое обучение (не говоря о молодых людях более младшего возраста), крайне незрелы ни морально, ни социально. Очень удачно, на наш взгляд, по этому поводу высказался А. Сурмава: «…Если таким мотивом (имеется в виду мотивом выбора предметов, курсов и преподавателей – И. Н. ) выступает голый материальный интерес, то и мышление, «свободно» развиваемое нашим студентом, будет мышлением экономически определенным, экономически ограниченным, а, значит, по существу несвободным…» [3]. От себя добавим, что этот же материальный интерес становится фактором выбора более легких (а не нужных) дисциплин и менее строгих (а не требовательных) преподавателей. Один из современных западных социологов – М. Янг, высказывая свое мнение по поводу либерализма в школах и университетах, отметил, что если не сформирован ценностный базис для обоснованного выбора, то ни о какой его свободе речи быть не может [5, с. 20].
Учитывая сказанное (хотя это далеко не все, что можно было бы сказать), ученым, борющимся с кризисом образования на постсоветском пространстве, стоит еще раз подумать, от того ли наследия мы отказываемся, не гоняемся ли за миражами, которые привели образование к кризису мирового масштаба? Экспертами доказано, что советская система образования имела ряд очень весомых преимуществ, которые не отвергаются даже самыми ярыми ее критиками. В самые свои лучшие годы советское образование было ориентировано не на частные нужды промышленности, а на нужды государственного управления и обеспечивающей последнее идеологии и нацелено на фундаментальную теоретическую подготовку и носило «не столько буржуазнопрагматический, сколько раннебуржуазно-классический характер» [3].
Программы средней и высшей школы строились по энциклопедиче-ски-просветительской схеме с упором на широкий круг фундаментальных дисциплин математического, естественнонаучного и социогумани-тарного циклов. В действительности, вместе с усвоением материала этих дисциплин усваивались и основные идеологические догмы социализма, что осуществлялось, преимущественно посредством зазубривания. Эта особенность советской системы образования подвергается наиболее интенсивной критике. Тем не менее, те ученые - теоретики и практики образования, которым посчастливилось быть непосредственными участниками образовательных процессов, происходящих в СССР, утверждают, что программы названных курсов было невозможно построить только из «идеологической макулатуры», не включая туда материалы, представляющие подлинные вершины мировой философско-теоретической мысли, включая и работы К. Маркса [2; 3]. Соотнося тексты классиков научной мысли с тем, что происходит в действительности, человек вместе с багажом знаний, умений и навыков, получал нечто крайне важное - способность критически мыслить, а вместе с тем и возможность подняться на несколько ступеней в развитии своего мышления и не уподобиться простому «хранилищу информации».
Мнение экспертов - историков, философов, социологов образования - таково, что американская (Западная) модель образования с развитием критического мышления ничего общего не имеет. Ориентиром для американского образования во все времена служили законы рынка: спроса, предложения, товарообмена, потребления, выгодных инвестиций и т.п. Люди получали образование исключительно ради того, чтобы быть конкурентоспособными, успешно и выгодно «продавать» свой интеллект [3]. Поэтому ни один среднестатистический американец не испытывал и малейшей необходимости в получении фундаментальных знаний, всестороннего образования, так как не видел в этом практической выгоды. В то же время в элитном секторе американской системы образования, как фундаментальность, так и всесторонность получаемых знаний очень даже приветствовались.
Сами же американцы, чью образовательную модель нередко ставят сегодня в пример, говорят приблизительно так: «Соревнование за первенство в космосе русские выиграли, сидя за школьной партой». Американский ученый Г. Стивенсон, проводивший в 1970-е гг. глобальные лонгитюдные исследования Восточной модели образования, делает выводы о существенных его преимуществах. Основной вывод, сделанный ученым, который нужно взять на вооружение каждому постсоветскому государству, пытающемуся улучшить свою систему образования, заключался в следующем: ни оборудование школ, ни особая организация питания и развлечения детей после уроков, ни разнообразие предметов уровня знаний у школьников не повышают. Напротив, чем более насыщены школьная программа и жизнь учеников, тем хуже они успевают в учебе. Ряд базовых, академических предметов с хорошо разработанной системой преподавания гораздо полезнее множества экзотических дисциплин, заведомо бесполезных для жизни и образования учеников [4, с. 6].
Налицо тот факт, что механизмы утилитарной (американской) модели образования в Украине, как и в России, не приживаются. И это не удивительно, поскольку, во-первых, они противоречат нашей ментальности, а во-вторых, неразвитость рыночной экономики нарушает беспрепятственное «приживление» утилитарной модели образования, основанной именно на законах рынка. В связи с этим, по мнению некоторых ученых, образование в ряде постсоветских стран подменяется специфической «рыночной социализацией» [1, с. 11; 3]. Отечественное образование в лице многочисленных учебных заведений, обладающих различной специализацией и уровнем аккредитации, пытается любыми способами выдержать конкуренцию, отреагировать на сиюминутные потребности различных экономических субъектов.
Такова, к сожалению, объективная ситуация, изменить которую означает, изменить отношение к самому образованию - повысить его статус в качестве терминальной, а не инструментальной ценности путем возрождения добрых и в то же время мощных традиций классической советской (Восточной) системы образования. Легко об этом говорить, но трудно сделать, однако необходимо. Эта необходимость интуитивно ощущается частично или в полной мере практически каждым участником образовательного процесса. Государство реагирует на это многочисленными реформами, научное сообщество - публикациями о том, как эти реформы лучше было бы осуществлять и т.п. Однако, «воз и ныне там», если не сказать хуже - «воз катится назад».
Делая общий вывод, отметим, что идею превращения «устаревшей» советской (Восточной) системы образования, придерживаясь основных принципов Болонского процесса, отбрасывать нельзя. Однако эта идея должна работать на практике, чего на данный момент не наблюдается. Подражание правилам единого европейского образовательного пространства требует «приспособления» этих правил к национальным традициям образования, без чего любые превращения могут быть не только безрезультатны, но и опасны. Критерии отбора того, что оставить в образовании, а от чего отказаться, что слегка откорректировать, а что подвергнуть коренной реформации, нельзя устанавливать произвольно. Формально отличия между Восточной и Западной моделями образования отображены именно в куррикулуме (учебной программе). Как мы уже писали, и украинские, и российские учебные программы традиционно были ориентированы на фундаментальные знания, западные же – на прикладные.
На наш взгляд, разработка социологической концепции куррикулу-ма будет способствовать решению проблемы нахождения баланса между традициями и инновациями, теорией и практикой, гармоничному их объединению в целостную модель образования. Именно этой разработке мы и планируем посвятить нашу дальнейшую научную деятельность. Тем более что собственно социологических работ, которые касались бы проблематики трансформации отечественной системы образования в сочетании с вопросами корректировки содержания и реструктуризации учебных программ, на сегодняшний день практически нет.
Список литературы Образование в поисках идентичности: Восток и Запад
- Отечественные традиции гуманитарного знания: история и современность: материалы VII науч.-практ. конф., 27 мая 2011 / под ред. М. П. Горчаковой-Сибирской. СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2011. 431 с.
- Столярова Н. К. Система образования в США, СССР и России. URL: http://nasima-stolyarova.narod.ru/s19.html (дата обращения: 30.11.2013).
- Сурмава А. В. Образование - от мифов к реальности. URL: http://www.sozia lismus.ru (дата обращения: 15.08.2013).
- Stevenson H. America's math problem // Educational Leader-Ship. 1987. October. Рр. 5-10.
- Young M. From a constructivism to realism in sociology of curriculum // Review of research in education. 2008. February. Vol.32. Р. 3-28.