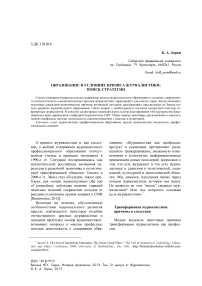Образование в условиях кризиса журналистики: поиск стратегии
Автор: Зорин Кирилл Александрович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Проблемы журналистского образования
Статья в выпуске: 6 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам поиска содержания модели журналистского образования в условиях современного онтологического и аксиологического кризиса журналистики, характерного для многих стран. Автор описывает некоторые социально-экономические причины возникшей ситуации, рассматривает предлагаемые на Западе модели развития журналистского образования, ставит вопрос о необходимости изучения ценностной системы современных журналистов. В качестве иллюстрации приводятся результаты анкетирования 108 журналистов Красноярского края, проведенного кафедрой журналистики СФУ. Опрос выявил некоторые представления о миссии и задачах профессии, методах деятельности, взаимоотношениях с властью и аудиторией.
Журналистика, профессиональное образование, кризис журналистики, аксиология, профессиональное сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/147218859
IDR: 147218859 | УДК: 378.016
Текст научной статьи Образование в условиях кризиса журналистики: поиск стратегии
О кризисе журналистики и, как следствие, о выборе содержания журналистского профессионального образования отечественные ученые и практики заговорили в 1990-е гг. Ситуация воспринималась как исключительно российская, вызванная переходом к рыночной экономике и политической трансформацией общества. Однако в 2000-е гг. Запад стал обсуждать такую проблему, как «конец журналистики» (the end of journalism), наблюдая падение тиражей печатных изданий, сокращение доходов от рекламы и снижение уровня доверия к СМИ [Виниченко, 2012].
Несмотря на отличия, обусловленные особенностями национального развития прессы, наблюдается некоторое подобие отечественного кризиса журналистики и западной проблемы «конца журналистики»: возникают вопросы о миссии профессии, методах деятельности, о содержании обра- зования. «Журналистика как профессия, продукт и концепция претерпевает радикальную трансформацию, вызванную изменениями в технологии; информационными привычками новых поколений; вопросами о том, кто есть журналист и что есть журналистика; и сдвигами в политической, социальной, культурной и экономической областях. Мы, кажется, находимся прямо перед концом журналистики, которую мы знаем. Но является ли этот “конец” смертью журналистики? Или под вопросом основная цель журналистики» 1.
Трансформация журналистики: причины и следствия
Можно выделить некоторые причины трансформации журналистики как профессии.
Во-первых, совершенствование информационно-коммуникативных технологий подорвало монополию масс-медиа на быстрое распространение массовой информации. Интеракция, основанная на взаимодействии участников общения в рамках различного рода компьютерных сетей и сервисов типа Youtube, сократила роль посредников, к которым относятся и медиаспециалисты. Безусловно, массовая информация существовала и до появления журналистики как вида деятельности, распространяясь спонтанно в силу стремления человека общаться [Лазутина, 2004. С. 35]. Однако развитие организованного способа ее производства привело к определенной асимметрии в области массовой коммуникации, когда по одну сторону находилась малочисленная группа медиаспециалистов и тех, кто пытался контролировать массовую коммуникацию (элита, рекламодатели, владельцы масс-медиа и др.), по другую – все остальное общество. Возникновение глобального информационного пространства, развитие информационнокоммуникационных технологий частично эту асимметрию устраняет, однако говорить о возникновении некоего «равенства коммуникативных возможностей» было бы наивно. С одной стороны, традиционные политические системы (причем в разных странах) приобретают черты меритократических систем, где возникает медиадемократия как «управляемая» демократия [Марков, 2010. С. 24]. Либо, согласно иной концепции, нетократия, в которой общество делится на нетократов, владеющих эксклюзивными знаниями и реальной властью, и консьюмериат, располагающий массовой и бесполезной информацией [Бард, Зодер-квист, 2004].
С другой стороны, для пользователей компьютерных систем сам факт общения приобретает намного большую ценность, чем получение и передача информация [Больц, 2011. С. 85]. Однако изменение привычек информационного потребления и частичное устранение монополии медиа на оперативное распространение массовой информации не может не вызывать ответную реакцию. Необходимость комментировать и анализировать события в условиях сокращения времени на осмысление фактов и поиска причинно-следственных связей, быстро реагировать на события, которые привлекли внимание аудитории без непосредственного участия медиаорганизаций, ставит вопрос о качестве профессиональных компетенций журналистов.
Во-вторых, происходят существенные изменения в медиаэкономике. Журналисты по-прежнему делают общедоступным эксклюзивное знание, наиболее ценный информационный продукт в условиях зарождающегося нетократического общества. А такая экономическая модель менее выгодная: в отличие от производства иных видов информационных продуктов здесь не может использоваться бизнес-модель, основанная на теории длинного хвоста (предлагая большой ассортимент малопопулярных товаров, можно заработать больше, чем ограниченный ассортимент бестселлеров). Ведь важная черта журналистского произведения – актуальность, поэтому материалы месячной давности почти никого не интересуют. Медиаорганизации стремятся снизить производственные издержки. Одна из успешных стратегий – замещение журналистских произведений продуктами развлекательного, рекламного характера, заказными материалами, другая – превращение в медиаторов, посредников, организующих общение разных групп [Зорин, 2012]. Развивается, особенно на региональном уровне, еще одна модель: конструирование новостей, частичная замена освещения реальных событий псевдособытиями. Пример – различные спецпроекты программ новостей, публикация материалов, созданных в рамках подписанных договоров об информационном сотрудничестве, или благодаря «интерактивному» взаимодействию с аудиторией, когда вначале сообщается некая сенсация или интересный факт, потом обобщается реакция аудитории на нее, полученная посредством SMS или через форум сайта телекомпании. При этом роль агрегаторов и переработчиков общественно важной информации выполняется не всегда. Таким образом, возникает проблема демаркации журналистики как социально ориентированной деятельности от медиаиндустрии как разновидности бизнеса.
В-третьих, всерьез задуматься о своей профессиональной задаче журналистов заставило появление новой социальной группы – блогеров. Ее нельзя считать профессиональным сообществом (в отличие от журналистов), поскольку отсутствуют жесткие взаимосвязи между членами, нет коди- фицированных норм поведения и иного набора черт, которыми обладают уже сложившиеся общности. Поэтому блогерство рассматривают как «любительскую журналистику», «социальную / народную журналистику» и т. д. Но нельзя не заметить, что конкуренция с традиционной журналистикой существует. Так, Е. Л. Вартанова фиксирует такой тренд, как «недоверие аудитории к профессиональным журналистам при готовности полностью доверять блогерам» [2011], хотя в блогах «господствует субъективность, полемичность и партийность. Аутентичность для блогеров важнее, чем объективность… Авторы заняты само-презентацией, ведь, как и всеми дневниками, электронными движет стремление выразить себя» [Больц, 2011. С. 23]. Безусловно, блогерские тексты возрождают журналистику мнений. Но блогеров, которые действительно интересны значительному числу членов общества, мало и «они уже не могут реагировать на огромное количество комментариев и… возвращаются обратно в мир вещания: в своих текстах они обращаются ко многим, будучи не в состоянии участвовать в нормальной коммуникации по поводу этих текстов… большая часть дневников – это письменный разговор друзей» [Там же. С. 105]. Однако возникновение противостояния «журналисты – блогеры» ставит серьезные онтологические вопросы о журналистике. Ведь если блогер или «журналист-любитель», который может быть независимым от медиабизнеса, занимается не конструированием псевдособытий, а сообщает общественно значимую информацию, то зачем тогда нужна журналистика? До последнего времени журналисты, «защищаясь» от блогеров, апеллировали к тому, что у профессионалов есть корпоративная этика, и законодательство обязывает проверять информацию. Но в последнее время заметно, что ведущие блогеры, желающие сохранить внимание своей аудитории, вынуждены действовать так же, как и профессиональные журналисты: перепроверять факты перед публикацией, не просто сигнализировать о важном событии, но и изучать причинно-следственные связи и т. д. Таким образом, вопрос о том, зачем нужна журналистика, трансформируемая медиаиндустрией и логикой медиабизнеса в гибрид журналистики, рекламы и пиара, остается открытым.
Вопросы для вузов
Описанные выше причины и следствия заставляют всерьез задуматься не только журналистское сообщество, но и вузы, осуществляющие профессиональную подготовку кадров для медиаиндустрии. Причем ученые и преподаватели, по крайней мере в России, уделяют этой проблеме больше внимания, чем практики, сосредоточенные на сегодняшних проблемах и задачах. Нельзя сказать, что существует какая-то единая стратегия, которая гарантирует сохранение традиционных для журналистской профессии задач, ее миссии и позволит выпускникам делать успешную карьеру в медиаорганизациях. Зачастую студенты, обучающиеся по данной специальности, оказываются перед более сложным моральным выбором, чем студенты иных специальностей, которые позже трудоустраиваются в масс-медиа. С одной стороны, в ряде вузов кафедры журналистики до сих пор отвергают необходимость знакомить студентов с реалиями рынка, предпочитая говорить о классических профессиональных идеалах. С другой стороны, всем понятно, что прагматизм и утилитарность тоже не самое лучшее решение: представители власти, общественности регулярно упрекают вузы в том, что современные журналисты бывают слишком беспринципны и оказывают деструктивное влияние на общество.
Нет единства и на Западе, который, напомним, также сталкивается с онтологическим и аксиологическим кризисом журналистики. Одна из предлагаемых стратегий его преодоления - это осознанная интеграция журналистики , рекламы и PR . И здесь есть отличие от наблюдаемой у нас гибридизации данных сфер. Когда в 1990-х на Западе возникли разговоры о смерти традиционного бизнеса, для многих стало спасением понимание того, что рынок – это общение, диалог. Концепция «новостей как диалога» стала главной и в журналистике. Ведь многие компании не могут «говорить» с клиентами только средствами рекламы и PR: часто необходим модератор в лице журналиста. А поскольку отсутствие диалога с клиентом означает смерть компании, появляются возможности для сохранения журналистики через ее «гибридизацию» с бизнес-коммуни-кацией. Об этом пишет Марк Бриггз, упоминающий новую форму журналистики –
«предпринимательский журнализм» ( entrepreneurial journalism ), которую, например, развивают в Университете Нью-Йорка и Университете Штата Аризона 2. Цель – обучить студентов воспринимать журналистику не только как публичную службу, сервис (традиционное западное понимание журналистики), но и как вид бизнеса, сохраняя профессиональные стандарты качественной прессы.
Вторая стратегия – усиление профессионализма . Несмотря на возникший в журналистике кризис, ее представители демонстрируют приверженность тем же ценностям, что и ранее: стремление точно анализировать факты, беспристрастность при освещении событий 3. Хотя, безусловно, само понятие объективности как ключевой ценности американской и европейской журналистики сегодня подвергается критике (возможна ли объективность вообще?). Важно, что стратегия усиления профессионализма особо подчеркивает роль обучения в вузах: Дэниель Эштон, ссылаясь на работу Саймона Фриса и Питера Миха «Becoming a jour-nalist» (2007), отмечает следующее. Только в рамках профессионального обучения можно формировать представления о профессиональных нормах и ценностях 4. Не в последнюю очередь именно из-за этого они отсутствуют у блогеров. О большой роли образования в формировании профессиональных ценностей и мировоззренческих представлений пишут и отечественные авторы, например С. Г. Корконосенко [2010].
Обозначенные концепции не дают ответа на актуальные для вузов вопросы. Например, они не позволяют понять, нужно ли отказываться от специализации и готовить не просто «конвергентных журналистов», а универсальных медиаспециалистов, способных одновременно осуществлять функции журналиста, рекламиста и PR-специалиста? Или же специализация и более глубокое понимание того или иного вида журналистики и вида медиа будут способствовать выживанию профессии? Если перспективно воспитывать журналистов-предпринимателей, то как при подготовке найти баланс между компонентами, характерными для ценностной системы успешного бизнесмена и ценностной системы общественного деятеля, миссионера? Ведь определенное мессианство характерно не только для отечественной журналистики, понимавшейся долгое время как «окололитературная деятельность», но и для западной журналистики как общественного сервиса, даже в рамках либертарианской концепции прессы медиа осуществляют общественный контроль над представителями власти. Очевидно, что предприниматель обязан в своей системе профессиональных ценностей ставить на довольно высокий уровень такой концепт, как выгода, а для общественного деятеля, гражданина намного выше должен быть концепт альтруизма. Еще есть ряд других непростых «общих» вопросов, стоящих и непосредственно перед вузом, независимо от того, на какие отрасли экономики он ориентирован.
Однако основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что сегодня не вполне понятна даже «точка отсчета»: текущее состояние профессионального сознания журналистского сообщества. И даже если интуитивно можно угадывать тенденции, крайне мало исследований, позволяющих их подтвердить статистически. А без видения четкой картины сложно искать наиболее успешную для журналистского образования модель.
Профессиональное сознание журналистов: некоторые штрихи
Попытка выявить некоторые ценностные ориентиры современных журналистов была предпринята кафедрой журналистики СФУ осенью 2011 г. С помощью анкеты были опрошены 108 человек, из которых 59 человек – представители краевых (красноярских) СМИ, 43 – районных; 50 опрошенных были в возрасте до 30 лет, 58 – в возрасте 30–55 лет и старше. Анкета содержала открытые и закрытые вопросы, с помощью которых выявлялись мотивы выбора профессии, пред- ставления о современных миссии и задачах журналистского труда, об интересах аудитории, взаимоотношениях журналиста и власти, а также о некоторых методах деятельности. Исследование позволило выявить не только осознание респондентами кризиса профессии, но и то, что традиционная оппозиция «краевой центр – район» уже не вполне актуальна: намного больше отличий обнаружено между молодыми журналистами (в возрасте до 30 лет) и их старшими коллегами. В целом исследование позволило определить направления для дальнейшей работы.
Представители старшего поколения, по данным исследования, демонстрируют идеалистичные представления о миссии журналиста, тогда как молодежь – более утилитарные. Так, обе группы сходятся во мнении, что миссия журналиста – правдиво отражать состояние дел в обществе (31 человек из 50 в возрасте до 30 лет, 30 человек из 58 в возрасте старше 30). Но с тем, что миссия журналиста – быть гражданином, участвовать в формировании гражданского общества, согласны лишь 9 из 50 респондентов в возрасте до 30 лет, тогда как на это указывают 21 человек из 58 представителей старших поколений.
При ответе на вопрос о современной миссии журналистики респонденты должны были выбрать не более 2 вариантов из 9 предложенных: правдиво отражать состояние дел в обществе; быть гражданином и участвовать в формировании гражданского общества; создавать мифы, иллюзии о «хорошей», счастливой жизни; уметь продавать информационный продукт, зарабатывая на этом деньги; формировать имидж организации, лиц (владельцев СМИ), которые он представляет; быть «рупором» власти; быть посредником и участником диалога между властью и общественностью; быть хроникером текущих событий; быть «властителем дум» (формирование духовных ценностей у населения). Большинство голосов набрали ответы «правдиво отражать состояние дел в обществе» (61 человек из 108) и «быть посредником и участником диалога между властью и общественностью» (49 человек из 108).
На отдельный вопрос о том, нужна ли журналисту гражданская патриотическая позиция, ответы распределились следующим образом. У молодежи 5 человек из 50
считают, что желательна, 23 человека считают, что обязательна, и 22 человека, что она несущественна. У журналистов старшего поколения: 23 человека из 58 согласны, что желательна, 23 – что обязательна, и только 9 считают ее несущественной. И обратная картина при ответе на вопрос о наличии такого качества, как умение манипулировать общественным сознанием. Из 50 представителей молодежи 9 считают, что оно обязательно, 25 – желательно, 19 – несущественно. Из 58 представителей старшего поколения только 5 считают, что обязательно и 15 – желательно, о несущественности такого качества заявили 33 респондента.
Идеалистичность представлений старшего поколения о миссии журналистики не соответствует ответам на конкретные вопросы о взаимоотношении журналистики и власти. Здесь они демонстрируют более прагматичную и зрелую позицию. Так, делая выбор между вариантами ответа на вопрос «Независимых СМИ (журналистов) не существует?», респонденты в целом демонстрируют следующую позицию: полностью согласны с утверждением 37 человек, частично согласны – 38 , не согласны – 27. Примерно такое же соотношение по обеим возрастным группам.
С утверждением о том, что «СМИ, включая журналистику, являются субъектами политической жизни, и в этом качестве они всегда должны быть на стороне властей (местных, федеральных); по крайней мере, участвовать в решении важнейших проблем страны» полностью согласны 15 человек («молодых» – 5, «зрелых» – 10), частично согласны – 55 (24 и 31 соответственно), не согласны – 31 (19 и 12 соответственно).
С утверждением о том, что «СМИ и власть решают совершенно разные задачи. СМИ по своей природе аполитичны» согласен лишь 21 человек («молодых» – 9, «зрелых» – 12), частично согласны – 30 (16 и 14 соответственно), не согласны – 46 (22 и 24 соответственно).
В отношении тезиса о том, что «СМИ принципиальным образом должны находиться в оппозиции к власти. В этом заключается их гражданская позиция», ответы распределились следующим образом. Полностью согласны с этим только 7 человек (4 «молодых» и 3 «зрелых»), частично согласны – 35 (21 и 14 соответственно), не согласны – 52 человека (22 и 30 соответственно).
Обе возрастные группы не готовы воспринимать журналистику как вид бизнеса. Так, о том, что миссия современной журналистики – уметь продавать информационный продукт, зарабатывать на этом деньги, заявили лишь 12 человек из 108 (из них 8 в возрасте до 30 лет). Причем данный факт оценивается скорее негативно, чем позитивно. Следом шел вопрос о том, соответствуют ли этому качеству СМИ, с просьбой объяснить свою позицию. Все 12 человек считают, что соответствуют полностью или частично и приводят аргументы типа: «многие журналисты заказаны, многие подкуплены», «все зарабатывают деньги на рекламе». Однако есть и такие высказывания: «профессионализм купить нельзя», «важно быть “на плаву”, зарабатывать деньги и в то же время лавировать между интересами разных социальных групп, оставаясь независимым».
В свете сказанного примечательно, что при ответе на вопрос о том, какие проблемы больше всего волнуют современных журналистов (необходимо было выбрать не более 2 вариантов из 7), на первое место опрошенные поставили низкую зарплату (59 из 108 человек: 29 «молодых» и 30 «зрелых»). На втором месте оказалось отсутствие свободы творчества (35 человек: 18 и 17 соответственно). В то же время для журналистов старшего возраста не менее значимой проблемой является инертность населения, равнодушие ко всему, что происходит в стране, крае (в целом – 33 респондента: 13 «молодых» и 20 «зрелых»), а также низкий уровень культурных, информационных запросов населения (34 опрошенных: 16 и 18 человек соответственно). Менее актуальны такие проблемы, как отсутствие возможности профессионального развития (19 человек: 10 и 9 соответственно); низкий престиж профессии (13 человек: 5 и 8 соответственно); отсутствие интересных тем и информационных поводов (11 человек: 5 и 6 соответственно).
В свете понимания респондентами места журналистики в политической системе, высказываний о миссии профессии насторожило то, что основным источником, из которого журналисты узнают информацию, далее используемую в профессиональной деятельности, стал Интернет. Его часто ис- пользуют 68 человек из 108 опрошенных, иногда – 26 человек. Естественно, данный крен более характерен для журналистов в возрасте до 30 лет: в основном Сеть используют 42 человека из 50, тогда как в старшей группе только 26 из 58; иногда – 6 (против 20 в старшей группе). Телевидение часто использует только 41 респондент и столько же (41) –иногда. Письма в редакцию часто используют лишь 29 человек, иногда – 24 человека из 108 опрошенных. И в основном это представители районных СМИ. Собственные расследования часто становятся источником информации только для 29 человек, иногда к ним прибегают 39 человек из 108. Слухи и «сарафанное радио» часто используют 20 опрошенных, иногда – 28.
Интересны взаимоотношения журналистов и аудитории, хотя исследование позволило прояснить лишь некоторые аспекты. Во-первых, интересы аудитории для опрошенных важнее интересов редакции, и намного важнее своих собственных, а также интересов власти, рекламодателей и собственников СМИ. Респондентов просили оценить, в какой мере, создавая публикации, они учитывают интересы упомянутых субъектов, предлагая шкалу «никогда – очень редко – иногда – часто» и вариант «затрудняюсь ответить». Интересы аудитории из 108 человек часто учитывают 76, иногда – 24, тогда как редакции часто – 81, иногда – 14. Свои собственные интересы часто учитывает 52 автора, иногда – 28. И особых отличий по возрастным группам не наблюдается. Интересы собственника СМИ часто учитывают 55 человек, иногда – 26 (но в то же время именно в этом пункте максимальное число затруднились ответить – 13 человек). Интересы органов власти часто учитывают 37 человек (8 из числа молодых, 29 – из числа зрелых), иногда – 33 (16 и 17 соответственно). Интересы рекламодателя часто учитывают 35 человек (11 из числа молодых, 24 из числа зрелых), иногда – 26 человек (11 и 15 соответственно). Разницу между двумя группами можно объяснить тем, что журналисты старшего поколения чаще работают с рекламными материалами и публикациями общественно-политической тематики.
В то же время интересы аудитории (на которые журналисты ориентируются в первую очередь), согласно представлениям журналистов, весьма противоречивые. Здесь есть разница как между возрастными группами, так и между территориальными (краевой центр / районы). И это, вероятнее всего, свидетельствует о незнании СМИ реальных интересов своей аудитории и замещении собственными представлении об этих интересах. Опрошенных просили указать, какая тематика, с их точки зрения, наиболее интересна аудитории. В целом наблюдается следующая картина: аудиторию интересуют скандалы (39 человек из 108), развлечения и «гламур» (33), криминал (27), нравственные проблемы (25). Далее равное число опрошенных отметили политику, общественнополитическую жизнь в крае, жизнь простых людей (20 человек), менее интересны шоу и перформансы (14) и жизнь звезд шоу-бизнеса (9), бизнес (4). Иная последовательность у журналистов в возрасте до 30 лет: скандалы (16 человек), криминал и политическая ситуация (по 16 человек в каждом случае), развлечения и «гламур» (15), шоу и перформансы (8), жизнь простых людей и нравственные проблемы (по 7 человек), общественно-политическая жизнь в крае и жизнь звезд шоу-бизнеса (по 4 человека), бизнес (2). Ряд из обозначенных тем у журналистов старше 30 лет: развлечения и «гламур», скандалы и нравственные проблемы (по 18 человек в каждом случае), общественно-политическая жизнь в крае (16), жизнь простых людей (13), криминал (11), жизнь звезд шоу-бизнеса (5), политическая ситуация (4) и бизнес (2). Последовательность у журналистов СМИ краевого центра: скандалы (29 человек), криминал и развлечения, «гламур» (по 20), политическая ситуация (16), нравственные проблемы (12), шоу и перформансы (11), жизнь про-стывх людей (9), общественно-политическая жизнь в крае (6), жизнь звезд шоу-бизнеса (5), бизнес (3). Последовательность у журналистов районных СМИ: общественнополитическая жизнь в крае (14 человек), развлечения, «гламур» и нравственные проблемы (по 13), жизнь простых людей (11), скандалы (10), криминал (7), политическая ситуация и жизнь звезд шоу-бизнеса (по 4), шоу и перформансы (3), бизнес (1).
Интересна и оценка качества взаимоотношений журналистов с аудиторией (вопрос предполагал возможность множественного выбора). Так, большинство, а именно 68 человек из 108, считают, что аудитория доверяет только отдельным журналистам; 16 чело- век уверено, что аудитория доверяет оппозиционным СМИ; 14 человек – СМИ, далеким от власти и политики; 12 человек – СМИ, сотрудничающим с властью. По мнению 12 опрошенных, аудитория вообще не доверяет СМИ.
В этой статье приводятся лишь некоторые данные, полученные благодаря проведенному исследованию. Однако даже эти сведения помогают выявить некоторые проблемные зоны и заставляют понять, что необходимо более четкое и комплексное исследование современных ценностных представлений журналистского профессионального сознания. Особенно с учетом разницы между молодыми журналистами и их старшими коллегами.
Выводы
Обобщая сказанное, во-первых, становится более ясно: учреждения профессионального образования, являясь частью современной медиасистемы, не могут дистанцироваться от проблем медиаиндустрии и не реагировать на проблему «конца журналистики» и ее сепарации от медиабизнеса. Однако это не означает, что вузы обязаны самостоятельно искать модели сохранения журналистики, заниматься форсайт-иссле-дованиями и угадывать, какие именно компетенции пригодятся выпускникам через 5–10 лет. Необходимо более настойчиво привлекать медиаидустрию, с одной стороны, и государство, с другой стороны, к финансированию, планированию и организации подобной работы. Это позволит не только рассуждать о месте журналистики в социальной системе, но и моделировать эффективные образовательные стратегии.
Во-вторых, развитие индустриального подхода в изучении журналистики (журналистика как часть медиаэкономики) и причин ее трансформации обнаруживает дефицит данных о «человеческом факторе». Социология журналистики (направление исследований, наиболее развитое лишь в Москве и Санкт-Петербурге) не рассматривает аксиологические вопросы, хотя без понимания этого аспекта невозможно формировать в рамках профессионального обучения те представления о профессиональных нормах и ценностях, которые позволят журналистике как профессии сохраниться.
Список литературы Образование в условиях кризиса журналистики: поиск стратегии
- Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. СПб., 2004. 252 с.
- Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. 136 с.
- Вартанова Е. Л. Тренды в российских СМИ и журналистике в двухтысячные//Ежегодник 2010. Экономика и менеджмент СМИ/Отв. ред. и сост. Е. Л. Вартанова. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 7-20.
- Виниченко В. М. Актуален ли для России «конец журналистики»?//Векторы развития медиаисследований в России: Тез. конф. М.: Изд-во МГУ, 2012. С. 35.
- Зорин К. А. Масс-медиа в условиях избытка информации и дефицита знания//Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: Материалы 51-й Междунар. науч-практ. конф./Отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб., 2012. С. 86-88.
- Корконосенко С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение: Учеб. пособие. М.: Логос, 2010. 248 с.
- Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2004. 240 с.
- Марков С. Медиакратия: СМИ как эффективное орудие власти в информационном обществе//Как стать знаменитым журналистом? М.: Алгоритм, 2010. 560 с.