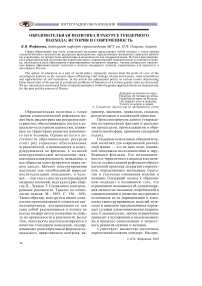Образовательная политика в ракурсе гендерного подхода: история и современность
Автор: Фофанова К.В.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Модернизация образования
Статья в выпуске: 4 (33), 2003 года.
Бесплатный доступ
Сфера образования как часть социальной политики представляет собой интерес с точки зрения социологического анализа как ресурсное пространство, определяющее жизненные стратегии мужчины и женщины, их ценностные ориентации и возможности для самореализации. В статье рассматривается образовательная политика как некий конструкт, определяющий поведенческие установки человека, обсуждается роль образования в формировании гендерного порядка. Автора интересуют транзитные формы образовательной политики в аспекте гендерного подхода, характерные для прошлого и настоящего России.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135813
IDR: 147135813
Текст научной статьи Образовательная политика в ракурсе гендерного подхода: история и современность
Сфера образования как часть социальной политики представляет собой интерес с точки зрения социологического анализа как ресурсное пространство, определяющее жизненные стратегии мужчины и женщины, их ценностные ориентации и возможности для самореализации. В статье рассматривается образовательная политика как некий конструкт, определяющий поведенческие установки человека, обсуждается роль образования в формировании гендерного порядка. Автора интересуют транзитные формы образовательной политики в аспекте гендерного подхода, характерные для прошлого и настоящего России.
The sphere of education as a part of social policy represents interest from the point of view of the sociological analysis as the resource space influencing vital strategy of man and woman, value orientations and opportunities of self-realization. In the article the educational policy as certain notion determining behavioural aims of the person is considered, problems of formation of a certain gender order are discussed. We are interested in transitional forms of educational policy within the gender approach which are characteristic for the past and the present of Russia.
Девушке-де разума не надо, Надобно ей личико да юбка, Надобны румяна да белилы. «За морем» учат и женщин: Учатся за морем и девки.
Л. Сумароков. Другой хор ко превратному свету
Образовательная политика с точки зрения социологической рефлексии может быть рассмотрена как ресурсное пространство, обеспечивающее доступ к социально-культурным ценностям, влияющее на траекторию развития жизненного пути человека. Однако на пути к доступности образовательных ресурсов стоит ряд социально обусловленных ограничителей, изменяющихся и конструирующихся во времени. С позиций конструктивистской методологии «всякая социальная реальность ненадежна, и все общества конструируются перед лицом хаоса». Момент конструирования выступает как «необходимый коррелят институализации поведения», а человек — как «часть институализированной матрицы значений, кода культуры» (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 156—169). Таким образом, конструкты имеют социальное происхождение и социально санкционированы, воспринимаются как само собой разумеющиеся и потому не всегда подвергаются сомнению по поводу их правильности и разумности. Более того, конструкты институализируются в качестве стандартов поведения, поддерживаемых разнообразными формами социального, нравственного контроля, на пример, законами, правилами, сводами, реализуемыми в социальной практике.
Проиллюстрируем данное утверждение историческими фактами и реальными процессами, происходящими в образовательной сфере, применив гендерный подход.
Гендерное осмысление образовательной политики для современной российской жизни — это не дань моде, навеянной западными исследователями и зарубежными фондами. Его инновационность и эвристичность видятся в возможности осуществления рефлексии образовательной практики, вскрытия стереотипов, определяющих жизненные стратегии и статусные отношения мужчин и женщин. Гендерный подход к образованию подводит к пониманию того, что ограничение возможностей удовлетворения личностно значимых потребностей в самореализации и развитии внутреннего потенциала из-за маркирования и социально сконструированных моделей мужского и женского предназначения порождает условия для возникновения депривации. Следовательно, данное ограничение приводит к искажениям и видоизменениям в процессе социализации и личностного развития мужчин и женщин.
Существует множество различных определений понятия «гендер». Мы при-
держиваемся позиции, согласно которой гендер — это некий культурно-символический знак, обусловливающий наши роли, стиль поведения, выстраивающий определенную структуру властных отношений между мужчиной и женщиной. Мы полностью разделяем точку зрения, согласно которой, «если пол принимается за данность, то гендер привнесен сознанием», а такие конструкты культуры, как «женственность» и «мужественность», могут трактоваться только с учетом и использованием этого понятия, поскольку появляется возможность выйти за пределы биологического определения. Термин «гендер» должен «подчеркивать не природную, а социокультурную причину межполовых различий» (Кирилина А.В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании // Филол. науки. 2000. № 3. С. 19). Иными словами, «женское», «мужское» суть биологические, данные от природы половые различия, а «мужественное», «женственное» — понятия, «сконструированные обществом и имеющие культурно-символические (гендерные) различия, которые трансформируются вместе с обществом и культурой» (Трофимова Е.И. О концептуальных понятиях и терминах в гендерных исследованиях и феминистической теории // Женщина в российском обществе. 2000. № 4. С. 32).
Выстраивание социальных конструкций осуществляется под воздействием социальных институтов, ведущая роль среди которых отводится образованию. Именно через систему образования определяется, что должно делать мужчине и женщине в обществе, каковы их социальные роли, стиль мышления, мировоззренческая стилизация, возможности личного, гражданского, профессионального выбора. Осуществляет это образовательная политика посредством целого ряда механизмов, например, через установление типов учебных заведений, содержание учебных программ и официальных и обязательных учебных стандартов, через скрытый учебный план (термин введен критической социологией И. Иллич), через методики преподавания и обучения, через требования, предъявляемые во время обучения к девушкам и юношам.
Образовательная политика в России: исторический взгляд
Исторические документы, художественные произведения, содержащие информацию об образовании, имеют гендерную окраску. Так, первые сведения об образованности небольшой части восточно-славянских женщин из господствующих слоев содержатся в русских летописях. Известно, что еще в 1086 г. княжна-инокиня Анна (Янка) Всеволодовна основала в Киеве при Андреевском монастыре женское училище. В первой половине XVI в. митрополит Даниил в своих поучениях подчеркнул, что обучение «писаниям» необходимо не только «пастырям» и прочим инокам, но и сущим в мире отрокам и девицам» (Энцикл. слов. / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1894. Т. 11. С. 866). Вместе с тем дошедшие до нас сведения показывают, что практика женского образования, — скорее, исключение. Система женского образования в России начинает складываться значительно позже, отставая в своем развитии от ряда европейских стран. Ю.М. Лотман в работе «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства» отмечает, что «знание традиционно считалось привилегией мужчин — образование женщины обернулось проблемой ее места в обществе, созданном мужчинами» (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства. СПб., 1999. С. 75).
Петр I осознавал необходимость женского образования, но не успел все свои замыслы претворить в жизнь. Однако рядом своих указов он задает траекторию развития женского образования. Например, указ от 24 января 1724 г. предписывает монахиням воспитывать сирот обоего пола и обучать их грамоте. Исключительно своеобразную форму продвижению женского образования придает специальный указ, согласно которому дворянских девушек, которые не могут написать хотя бы свою фамилию, не разрешалось венчать.
Содержание образования в то время выстраивалось на конструктах о «женственности» и «женском предназначении», необходимости обучать «... девочек, кроме того, — пряже, шитью и другим мастерствам». Данная направленность образования женщин выдерживалась и при Елизавете Петровне, когда «положено было обучать женщин „бабьему делу“, для чего были учреждены акушерские школы сначала в Москве и Петербурге, а затем и в провинциях» (Эн-цикл. слов. / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 11. С. 866).
В эпоху Екатерины II значительно расширяется доступ женщин к образованию. Учреждением «Воспитательного заведения для благородных девиц», при котором были открыты училища для 240 мещанских девушек, было положено начало среднему образованию девушек дворянского происхождения. Позднее из этого заведения вырос знаменитый Смольный. В Петербурге с 1781 г., в губернских городах с 1786 г. стали создаваться народные училища, в которых обучалось 12,5 тыс. девочек, что в 13 раз меньше, чем мальчиков. В последний год царствования Екатерины II из 1 121 обучающихся девочек на Петербургскую губернию приходилось 759, а на все остальные — 362 (см.: БСЭ. Т. 5. М., 1971. С. 560).
Известная российская исследовательница О.А. Хасбулатова отмечает, что процесс реформирования сферы образования, начавшийся во второй половине XIX в. осуществлялся медленными темпами, с преобладанием административных методов управления. Причиной тому служили несколько обстоятельств. Во-первых, в обществе и властных структурах господствовали представления о единственном предназначении женщины быть матерью и хозяйкой дома. Во-вторых, экономическая элита была заинтересована в дешевой, неграмотной женской рабочей силе. В-третьих, в условиях абсолютной монархии централизованная власть нуждалась в необразованном, способном повиноваться народе (см.: Хасбулатова О. Женщины и образование в России (исторический обзор) // Материалы к курсу «История женского образования в России». Плес, 2001. С. 1).
К 1856 г. девочки составляли всего 8,2 % учащихся начальных школ (см.: Федосова Э.П. Бестужевские курсы — первый земский университет в России (1878—1919). М., 1980. С. 144). Реформа начального образования, осуществлявшаяся благодаря активной деятельности земских учреждений, городских управлений, сельских общин и частных лиц, значительно улучшила этот показатель. В 1880 г. во всех 22 770 начальных школах России обучалось 239 997 девочек, что составляло уже 20,7 % от числа учащихся (см.: Народное образование в России. М., 1910. С. 34). На долю учительниц приходилось 13,25 % педагогического состава (там же. С. 37). В ходе реформы открывались церковно-приходские школы и школы грамоты, которые находились в ведении Святейшего Синода. По расходам на начальное образование ведущие места занимали земства и сельские общины. На государственную казну приходилось 2,1 % расходов (там же). Однако власти и общество по-прежнему не были заинтересованы в образовании женщин. Подтверждением этому служит тот факт, что через 40 лет с начала реформ, к 1905 г., в начальных школах всех ведомств удельный вес девочек не превышал 27 % (см.: Хвостов В. Женщина накануне новой эпохи. М., 1905. С. 93).
По данным земских статистических исследований, касающихся 114 уездов и 20 земских губерний с населением почти в 17 тыс. душ, грамотность женщин в начале XX в. более чем в 5 раз уступала грамотности мужчин (см.: Мижуев П.Г. Женский вопрос и женское движение. СПб., 1906. С. 26). В целом доля неграмотных среди женщин достигала 83,4 % (см.: Вестн. статистики. 1973. С. 3). При этом целью обучения, как, например, отмечалось в Положении о женских училищах, являлось сообщение ученицам «того религиозного, нравственного и умственного образования, которого должно требовать от будущей матери семейства» (цит. по: Кузьменко Д.П. Народное образование в России в царствование
Дома Романовых // Трехсотлетие царствования Дома Романовых. Россия в ее прошлом и настоящем. М., 1914. С. 10).
В соответствии с указанной целью выстраивалась и программа обучения в женских училищах, гимназиях. Она была весьма упрощенной и носила практический характер, «программы гимназий, Мариинских институтов, епархиальных училищ отличались лишь некоторыми частностями. Все эти учебные заведения в конечном итоге могли дать только общее среднее образование и некоторой части выпускниц — свидетельства домашней наставницы и домашней учительницы: на этом образование и предоставляемые им возможности заканчивались даже для привилегированных учениц из семей потомственных дворян. Продолжать обучение бывшие гимназистки или институтки не могли в России, не могло быть и не было инженеров, юристов, доцентов, профессоров и т.д.» (Чич С.Н. Государственная система общеобразовательной подготовки женской молодежи на Кубани в XIX — начале XX века. Майкоп, 1993. С. 78—79).
Причина такого положения кроется в традиционно-патриархальных взглядах, классической демонстрацией которых выступает, например, позиция чиновника ведомства просвещения фон Брадке: «Считаю, что женский пол по особенностям его конструкции и умственных и душевных его способностей нельзя признать способным ни к изучению анатомии, необходимой для медицины, ни для приобретения юридических сведений, по их сухости и строгой последовательности, ни для строгих филологических соображений» (цит. по: Сов. студенчество. 1937. № 8. С. 29).
На рубеже веков формируется более устойчивый образ женского образования и начинает складываться система женского образования. Знаменитый Смольный считался прогрессивным институтом. Но и он давал лишь поверхностное обучение. Физика сводилась к забавным фокусам, математика — к самым элементарным знаниям. Исключение составляли языки, к знанию которых требования были очень высокие. Из остальных же предметов значение придавалось фактически только танцам и рукоделию. Все это сказывалось на процессе формирования идентичности женщины и исключало для нее возможность профессионального и гражданского выбора.
Вся система образования, предлагаемая женщинам, была скроена по мужским параметрам и представлениям, и место женщине в ней определялось исключительно по разрешению мужчин. Например, в предисловии к «Справочнику по женскому сельскохозяйственному образованию» (СПб., 1912) отмечалось: «Россия страна по преимуществу земледельческая, 80 % ее населения занимается сельским хозяйством. И в этом числе более 70 000 000 женщин. Участие их в земледельческом труде никак не менее, чем у мужчин; если ему нужна специальная подготовка научная и практическая, то в равной степени она нужна и женщине. Это неоспоримо» (С. 4).
Что касается высшего образования, то доступ к нему для женщин согласно университетскому уставу 1863 г. был практически невозможным. Для получения высшего образования им необходимо было ехать за границу, преодолев множество различных преград, включая материальные, языковые и пр. Известна и такая практика дискриминации русских женщин, когда им не разрешалось обучаться и в зарубежных университетах. Например, в Цюрихском университете в 1873 г. было принято соответствующее распоряжение.
История образования женщин отражает тот факт, что они постоянно должны были доказывать свою состоятельность и возможность обучения, убеждать общество в своих способностях и силах заниматься профессиональной «мужской» работой. В этом плане очень показательна книга Е. Некрасовой «Жизнь студентки» (М., 1903), в которой рассказывается о судьбе Варвары Степановны Некрасовой. Уникальность книги не в том, что в ней содержится ряд исторических фактов. В ней глубоко и проникновенно передаются те внутренние переживания и интенции, которые были вызваны огромной тягой к настоящему зна- нию, потребностью в самореализации посредством профессионального становления. Сила воли, усердие и целеустремленность героини являются отражением ее гражданской позиции и смелости. По сути, дневниковые записи зафиксировали не переживания одной конкретной девушки, а процесс вхождения женщины в мужское сообщество, «пропуском» в которое были чисто «мужские» качества и представления о «мужественности».
Из 65 государственных высших заведений (по состоянию на 1917 г.) 61 было мужским. «Не только государственность, но и общественная жизнь строилась как бы для мужчин: женщина, которая претендовала на серьезное положение в сфере культуры, тем самым присваивала себе часть „мужских ролей“. Фактически весь век был отмечен борьбой женщины за то, чтобы, завоевав право на место в культуре, не потерять права быть женщиной» (Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 75). Ограниченный доступ к образованию вынуждал женщин к противостоянию. Например, Софья Ковалевская для получения доступа к высшему образованию должна была фиктивно выйти замуж, чтобы уехать учиться в Германию. В Геттингенском университете она получила степень доктора философии за дифференциальные уравнения. На родине же ей предложили преподавание арифметики в младших классах гимназии.
Таким образом, доступ к образованию как ресурсу самореализации и профессионального становления в дореволюционной России был строго дифференцирован по гендерному признаку: для мужчин это было право, для женщин — исключительно милостыня и снисхождение. Осуществлявшиеся тем не менее изменения в сфере образования выходили за ее рамки, оказывая непосредственное влияние на структуру жизни, распределение ролей, тип жизнеустройства, семьи и быта.
Советский период: формальные модели равенства
В социализм Россия вступила с очень низким уровнем грамотности населения, который значительно отставал от пока зателя европейских стран. Поэтому одной из первостепенных задач в первые десятилетия советской власти являлось повышение уровня грамотности и образованности в короткие сроки. Образовательная политика стала важнейшим элементом социалистической доктрины, а в последующие годы переросла во влиятельный инструмент социальной политики и идеологического управления. Расширение доступа к образованию мужчин и женщин было необходимым условием политической и экономической модернизации. В течение первого десятилетия советской власти социальная политика в сфере образования управлялась эгалитарной идеологией.
Для решения указанной задачи создавались самые различные формы и виды учебных учреждений: заочные средние школы, начальные, неполные средние и средние школы рабочей молодежи, школы повышенного типа, школы взрослых, классы, охватывающие стахановцев производства, городские, поселковые школы, рабфаки и т.д.; организовывались выездные бригады культармейцев и домашних учителей.
Гендерная составляющая в образовательной политике выделялась особо. В архивных документах тех лет можно найти отчеты и записи, в которых содержится информация о практике обучения домохозяек на дому, об учете неграмотных и малограмотных женщин до 50-летнего возраста. С целью выяснения имеющихся знаний проводились индивидуальные беседы с каждым неграмотным.
В статистических отчетах первого десятилетия советской власти по вопросам образования, включающих сведения о наборе учащихся, об уровне грамотности, наряду с графами учета рабочих, колхозников, крестьян присутствовала отдельная графа по учету количества женщин, получающих образовательные услуги. Данные отчеты фиксируют более высокий показатель привлечения женщин к образованию.
Период конца 1920-х — начала 1950-х гг. характеризуется изменениями в содержании социальной политики, нацеленной на удовлетворение нужд госу- дарственной экономики за счет подготовки квалифицированных специалистов для той или иной отрасли народного хозяйства. Направленность образовательной политики на женщин имела утилитарный характер: посредством расширения их доступа к образованию планировалось восполнить недостаток в квалифицированных кадрах.
Народным комиссариатом трудящихся СССР устанавливались задания по приему девушек в различные типы учебных заведений. Правда, эти задания систематически не выполнялись. Так, например, в 1931 г. по решению Народного комиссариата девушки должны были составлять не менее 50 % от общего набора в школы ФЗУ, но в 1932 г. среди учащихся их было только 38,4 % (см.: Баскакова М.Е. Экономическая эффективность инвестиций в высшее образование: гендерный аспект. М., 2002. С. 14).
Особенно успешно, по оценкам исследователей тех лет, шло привлечение девушек к учебе в техникумах и вузах.
Еще декретом от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в высшие учебные заведения РСФСР» был разрешен доступ в вузы для всех желающих, независимо от их пола, национальности, вероисповедания и имущественного положения, без дипломов и экзаменов.
По данным ЦУХНУ Госплана СССР, за 1928—1933 гг. удельный вес женщин среди учащихся техникумов возрос с 37,6 до 41,7 %, а среди учащихся вузов — с 28,1 до 33,3 % (с 44,9 тыс. до 156,3 тыс., т.е. в 3,48 раза) (см.: Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР. М.; Л., 1934. С. 139). Политика расширения доступа к высшему образованию для женщин получила свое развитие в Конституции 1936 г., которая декларировала равное для всех граждан право на образование.
Представленность девушек среди студентов вузов возрастала на протяжении всего периода строительства социализма. Изменение этого показателя за 1927—1995 гг. показано в таблице.
Динамика численности женщин, обучающихся в советских вузах, с 1927/28 по 1994/95 уч. год*
|
Показатели |
1927/1928 |
1940/41 |
1945/46 |
1950/51 |
1955/56 |
1960/61 |
1985/86 |
1990/91 |
1994/95 |
|
Численность женщин, |
|||||||||
|
обучающихся в вузах, тыс. чел. |
47 |
471 |
562 |
661 |
971 |
1042 |
1661 |
1427 |
1337 |
|
% к числу студентов |
28 |
58 |
77 |
53 |
52 |
43 |
58 |
51 |
53 |
|
% женщин среди студентов вузов: промышленности, строительства |
13 |
40 |
60 |
30 |
35 |
30 |
45 |
34 |
36 |
|
сельского хозяйства |
17 |
46 |
79 |
39 |
39 |
27 |
41 |
35 |
41 |
|
экономики и права |
21 |
64 |
77 |
57 |
67 |
49 |
74 |
69 |
65 |
|
здравоохранения |
52 |
74 |
90 |
65 |
69 |
56 |
62 |
62 |
65 |
|
просвещения, искусства |
49 |
66 |
84 |
71 |
71 |
63 |
56 |
53 |
57 |
|
* Составлено по: Высшее образование в СССР: Стат. сб. М., |
1961. С. |
86. |
|||||||
Из приведенных в таблице данных видно, что за анализируемый период численность девушек — студенток всех вузов возросла в 28 раз, а доля среди всех студентов — почти в 2 раза. По ряду специальностей, получивших ярлык «женских» (здравоохранение, просвещение и др.), девушки стали значительно опережать юношей.
Реформа 1958 г. в сфере образования способствовала выравниванию шансов мужчин и женщин, поскольку восьмилетнее среднее образование стало обязательным для всех.
Подготовительные отделения, которые пришли на смену рабфакам, были призваны скорректировать состав студентов высшей школы в соответствии как с социальной, так и с половой структурой общества. Состав студенчества в 70-е гг. в целом соответствовал структуре общества, но в половом составе дневных, вечерних и заочных отделений вузов имелись различия.
Такая результативность отражала не действительное равенство между мужчиной и женщиной, а идеологическую установку эгалитаризма борцов за социализм. За этим провозглашенным равенством образовывались лакуны сегрегации на рынке труда, разыгрывались сценарии с распределением «мужских» и «женских» ролей. Скрытыми симптомами неравенства в образовании можно считать неодинаковые доли студентов-мужчин и женщин по ряду специальностей, разные требования, предъявляемые к девушкам и юношам во время обучения. Подобная симптоматика впоследствии привела к неравенству в профессиональной и карьерной реализации, распределении по специальностям, в уровне заработной платы, что имело существенное социальное значение.
Касаясь данной темы, российская исследовательница О.А. Воронина отмечает, что «уже тогда существовали некоторые нарушения принципа равноправия женщин и мужчин при получении по-слешкольного образования, которые чаще всего обосновывались „заботой о здоровье“: женщин официально не принимали в те учебные заведения, которые обучали профессиям, запрещенным КЗОТом для женщин по вредным условиям труда. Однако неофициально женщин не принимали и в другие, особо престижные, учебные заведения: в МГИМО — на факультет международных отношений; в МГУ — на отделение международной журналистики и в Институт восточных языков; в Институт военных переводчиков, в военные и милицейские училища и вузы» (Права женщин в России: исследование реальной практики их соблюдения и массового сознания. М., 1998. Т. 1. С. 86). Вопрос об этих нарушениях прав женщин никогда официально не обсуждался, хотя он и противоречил провозглашенному в советской Конституции ра венству прав женщин и мужчин в сфере образования.
Действующая модель «двойного кормильца в семье», гендерные стереотипы и патриархальные традиции делали стратегию на равенство в образовании по сути формальной и официально декларируемой.
Таким образом, советское правительство создало одну из наиболее продвинутых систем образования в мире в отношении равного доступа. Взятая им на вооружение стратегия принесла свои положительные плоды, была политически корректной и своевременной, но выстраивание ее с позиций патриархальных ценностей и стереотипов порождало практики дискриминации как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. Оценка эффективности образовательной политики не включала в себя анализ того, как складывается карьерная, профессиональная судьба мужчины и женщины, «за этой образовательной революцией не последовало революции на рынке труда и в системе занятости» (Бек У. Общество риска на пути к другому модерну. М., 2000. С. 151).
Транзитная модель образования: смена гендерного порядка
Образование выступает одной из сфер, которая сегодня переживает перестройку структурных, институциональных конструкций, функциональных механизмов, обеспечивающих накопление человеческого капитала.
Предыдущие модели образования достаточно глубоко повлияли на общественное сознание населения, сложили устойчивые стереотипы, нормы поведения и осмысления действительности, которые методично разрушали какие-либо предпосылки для появления сомнений о существовании неравенства в образовании, дискриминационных практик в процессе обучения. Тем не менее, бросая взгляд на путь социально-политических трансформаций нашего общества, можно сказать, что уже достигнуты определенные результаты в перестройке социальных институтов. Демократические, правовые традиции и элементы начинают постепенно и органично вплетаться в ежедневную ткань жизни во всех ее проявлениях.
С принятием Конституции РФ 1993 г. были заложены основы гендерной стратегии развития. В ст. 19 Основного Закона отмечается, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Это означает, что женщины и мужчины обладают равным статусом, имеют равные условия для реализации всей полноты прав человека. Но свидетельствует ли это о том, что в условиях транзитного континуума вопрос о неравенстве между мужчиной и женщиной сдвинулся с мертвой точки? Однозначно ответить на поставленный вопрос, не фокусируясь на конкретном объекте рассмотрения, наверное, нельзя. С одной стороны, сравнивая историческое прошлое и современное состояние ситуации в образовании, можно сказать, что произошел колоссальный прорыв в области равноправия мужчин и женщин. Более того, статистические данные вырисовывают тенденцию феминизации образования. С другой стороны, полученное женщинами равенство в образовательном пространстве приводит к ожиданию равенства в период реализации и вкладывания полученного образовательного капитала, но вот здесь-то, в пространстве рынка труда, и всплывает айсберг, видимой частью которого является равенство.
Отметим, что ст. 19 Конституции РФ указывает на следующие обстоятельства: во-первых, на необходимость согласованности функционирования социальных институтов, обеспечивающих доступ к благам и ресурсам, которые равно и реально должны распределяться между мужчинами и женщинами;
во-вторых, на необходимость учета гендерного компонента при разработке стратегий социального и правового развития общественной системы, отвечающей стандартам мирового сообщества;
в-третьих, на необходимость введения гендерной государственной и независимой альтернативной экспертизы образовательных программ и проектов.
Модель образования в России находится на стадии постепенной адаптации к существующим социально-экономическим условиям. В этом контексте достаточно знаковыми можно считать появление новых видов учебных учреждений, форм обучения, расширение рынка образовательных услуг, коммерциализацию всего образовательного пространства.
В целом в обществе существуют различные подходы к образовательным преобразованиям. Много вопросов вызывают и конкретные шаги по модернизации образовательной системы. В частности, идут дискуссии о доступности и неравенстве в системе образования, о практиках исключения из качественного образовательного пространства, о распределении образовательного капитала между мужчинами и женщинами. По данным вопросам в обществе сегодня нет единой позиции. Но необходимо понимать, что эти дискуссии — не отдельный эпизод из российской жизни страны, а определенный показатель уровня развития общества. Нужно также иметь в виду, что в нашем обществе имеется ряд устойчивых стереотипов о праве на образование, его назначении и использовании. Мы считаем, что сложившиеся стереотипы не совсем адекватно отражают сущность транзитной модели в образовании и во многом являются поверхностным видением изменяющихся процессов.
Транзитная модель образования отражает несоответствие и противоречие между поставленными целями и реальными практиками. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что противоречивость модернизации образовательной сферы сопровождается не только прямолинейным поступательным движением вперед, в сторону инновационных форм, вариативности, но и прецедентами остановки и даже временных откатов, которые объективно происходят в силу необходимости периодического закрепления уже достигнутых результатов и сильной живучести устоявшихся традиций и гендерных стереотипов.
Обозначенные в ст. 19 Конституции РФ контуры гендерного равенства не были предопределены культурными ценностями, правовой культурой, сознанием, что осложняет процесс выравнивания отношений.
Спустя 10 лет после принятия Конституции, в июле 2003 г., в России появляется «Стратегия гендерного развития». Один из ее разделов называется «Гендерные критерии развития культуры, науки и образования». Данный документ предлагает ряд критериев и направлений, которые должны способствовать установлению гендерного равенства.
В области образования «Стратегия гендерного развития» предполагает совершенствование по следующим двум ключевым направлениям:
— содействия развитию и повышению престижности неофициального и неформального образования и самообразования;
— обеспечения права граждан независимо от их пола на совмещение обучения с работой и семейной жизнью (Гендерная стратегия Российской Федерации // .
Действительную важность указанные направления получат только в том случае, если они реально заработают, а пока это только очередной оптимистический вариант решения сложных проблем, которые связаны не только с низким уровнем экономики, но и с самим устройством общества, устоявшимся гендерным порядком. Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века (Париж, 9 октября 1998 г.) специально выделено положение о том, что в процессе выработки и осуществления гендерной стратегии в области высшего образования «необходимо продолжать усилия, направленные на искоренение всех стереотипов, обусловленных признаком пола, учет гендерных аспектов во всех дисциплинах и расширение участия женщин на всех ступенях и во всех дисциплинах, где они недопредставлены, обеспечив, в частности, их более активное участие в процессе принятия решений» (там же).
Освобождение от стереотипов, патриархальных устоев означает возврат человека к самому себе, возможность его самореализации и изменения отношений с окружающими. Надеемся, что со временем в этом направлении произойдут изменения. Общество посредством оптимальной модели образования будет эффективно использовать творческий потенциал мужчин и женщин, и равное образование избавит тех и других от неравенства их положения в сфере труда и занятости, в сфере семьи и частной жизни.
Поступила 11.08.03.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ДВИЖЕНИЯ В СТОРОНУ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ