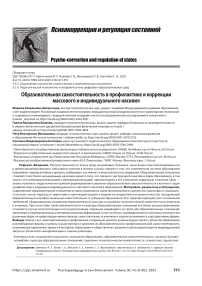Образовательная самостоятельность в профилактике и коррекции массового и индивидуального насилия
Автор: Арпентьева М.Р., Валеева Г.В., Меньшиков П.В., Коптяева С.В.
Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd
Рубрика: Психокоррекция и регуляция состояний
Статья в выпуске: 3 (102), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Распространение по всему миру колумбайна, буллинга, иных форм персонализированного и деперсонализированного (массового) насилия в школах и вузах говорит о том, что современная система образования переживает период активного кризиса, требующего системного и многолетнего исследования. Образовательные отношения становятся все более насыщенными насилием разного типа, что связано с деструкцией смыслов и форм образования, в том числе с его коммерционализацией и менеджериализацией, привносящими в эти отношения коррупцию и насилие. Цель — анализ психолого-педагогических проблем формирования и развития образовательной самостоятельности в контексте задач профилактики и коррекции индивидуального и массового насилия в образовании. Материалы, результаты и обсуждение. Современные образовательные отношения активно изменяются, включая изменения их ценностно-смысловых и социально- статусных основ: переход от директивно-научающей модели к модели исследовательски-диалогической, поощряющей образовательную и профессиональную самостоятельность субъектов образования. Этот переход порождает рост и изменение требований к формированию и развитию образовательной культуры и социально-психологической компетентности педагогов и учеников. При отсутствии такой компетентности и культуры образовательных отношений все более распространенными становятся случаи психопатизации или социопатизации отдельных индивидов и их групп или образовательных отношений, увеличение интраперсональных и интерперсональных деформаций, в том числе рост индивидуального и массового насилия и его различных форм: не найдя продуктивных каналов, самостоятельность учеников и педагогов выливается в деструктивные формы. Выводы. Школа и вуз, заинтересованные в профилактике и коррекции насилия, должны предоставлять субъектам образования разнообразные формы и каналы осуществления и развития их образовательной и профессиональной самостоятельности, позволяющей гармонично, прямо и в интересах образования и общественного развития в целом удовлетворить индивидуальные запросы субъектов в самореализации и самоактуализации.
Социальная психология, психология образования, образовательная самостоятельность, насилие, буллинг, колумбайн, культура образовательных отношений, социально-психологическая компетентность, психопатия, социопатия
Короткий адрес: https://sciup.org/149149238
IDR: 149149238 | УДК: 159.98+377 | DOI: 10.24412/1999-6241-2025-3102-311-319
Текст научной статьи Образовательная самостоятельность в профилактике и коррекции массового и индивидуального насилия
Мариям Равильевна Арпентьева, доктор психологических наук, доцент, академик Международной академии образования, член-корреспондент Российской академии естествознания, ведущий научный сотрудник института гуманитарных технологий и социального инжиниринга 1; ведущий научный сотрудник института управленческих исследований и консалтинга 2; ;
;
Galina V. Valeeva, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Valeology and Biomedical Disciplines of Higher school of Physical Culture and Sports 3; ; Petr V. Меnshikov, Candidate of Science (in Psychology), Associate-Professor, Associate-Professor at the chair of Developmental Psychology and Education of the Institute of Psychology 3; ;
Svetlana V. Koptiaeva, Master of Psycho-Pedagogical Education of the Institute of Psychology, social pedagogue and psychologist 4; ;
Актуальность, значимость и сущность проблемы. Распространяющиеся по всему миру, достигающие состояния нормализации колумбайн, буллинг, иные формы персонализированного и деперсонализированного (массового) насилия в школах и вузах говорят о том, что современная система образования переживает период активного кризиса: отношения людей по поводу образования, его целей и ценностей, методик и технологий, позиций и форм, активно и порой радикально изменяются [1–3]. Традиционная культура образовательных отношений (описывающая образовательные отношения как монологический процесс передачи предметноопределенных, заданных государственными, профессиональными и иными стандартами знаний, умений и ценностей) как система принципов и норм взаимодействия субъектов образования разрушается, уступая место новой, «инновационной» культуре (описывающей образование как процесс направляемого педагогом совместного, диалогического исследования внутреннего и внешнего мира). Однако изменение культуры образования протекает в настоящее время с большими потерями и издержками. При всей многочисленности теоретических работ и практических исследований, посвященных данному переходу, осмыслению культуре образования будущего, многое остается незаконченным и нереализованным [4–6].
С одной стороны, значительная часть деклараций необходимых для осуществления данного перехода изменений связана с такими финансово-экономическими, нравственно-психологическими и т. д. затратами, что современные школы и вузы просто не имеют возможности, а подчас и желания их осуществлять.
Яркий пример — цифровое образование, или образование, опосредованное цифровыми технологиями: оно декларируется как экономящее силы и средства учителя и учащихся, преподавателя и обучающихся, а также (что немаловажно) государства и общества, но на практике это весьма сложная и требующая значительных усилий и ресурсов образовательная модель, к которой нужно тщательно и достаточно долго готовить и специалистов, и учеников, и общество в целом [2]. «Штурм» цифрового образования, предпринятый во многих странах мира на фоне событий «самоизоляции» / «пандемийных лок-даунов» 2020–2022 гг., показывает, что даже если педагоги, ученики и семьи учеников пытаются реализовать задачи перехода на дистанционное «цифровое» образование, оперативно разрабатывают и внедряют методические материалы и обучаются цифровым технологиям, вреда от такого освоения больше, чем пользы [3]. И главная опасность здесь связана с деформацией отношений людей в целом и образовательных отношений в частности: машина, технология не может заменить человека. Обучение и воспитание человека осуществляет другой человек. Это особенно важно там, где речь идет о качествах, делающих человека субъектом, таких как самостоятельность.
С другой стороны, некоторые исследователи смело констатируют не столько изменение культуры образования, взаимоотношений его субъектов, сколько смерть образования как такового: начиная с критики теоретических и иных «лишних» знаний и умений, среди которых значительное место занимают гуманитарные, с критики классно-урочной системы образования и заканчивая проектами тотальной замены педагогов цифровыми технологиями. Эти технологии будут управлять людьми, находящимися в состоянии постоянного поиска знаний и умений (а также подтверждающих их документов), стимулируемыми непрерывной моделью образования и необходимостью искать работу, продавая свои компетенции и покупая образовательные услуги, чтобы суметь быть конкурентоспособными по сравнению с другими малокомпетентными субъектами и роботами. В этом контексте индивидуализация и творческий, исследовательский характер образования лишь декларируются: на практике человек изначально формируется как малокомпетентное устройство для обслуживания «производственных» нужд и (или) сервиса как такового. Напротив, как показывает опыт подготовки одаренных («способных») детей, подростков и юношей (able students), а также анализ судеб многих «вундеркиндов», наличие и качество профессиональной подготовки, партнерских и личностных свойств педагогов, направляющих творческий, исследовательский поиск этих учащихся и обучающихся, — ведущее условие успеха [7]. Чтобы подготовить ребенка, подростка, молодого или взрослого человека в рамках традиционной, репродуктивной модели образования, многого не нужно: в меру директивный педагог (группа педагогов-предметников), достаточно хорошо владеющий предметными и методическими компетенциями. Но для того чтобы подготовить человека согласно инновационной, творческой модели образования, необходим сложившийся коллектив специалистов. Это должны быть не обычные педагоги, психологи, социальные работники, врачи и т. д., а педагоги-творцы, психологи-творцы и т. д. Претендовать на способность строить и формировать педагогические отношения в рамках новой культуры образования, развивающей учеников как самостоятельных, творческих, всесторонне развитых людей (С. Н. Бондаренко, В. Д. Богоявленская, Э. А. Гришин, В. В. Давыдов, В. А. Кан-Калик, И. Я. Лернер, A. Маслоу, Н. Д. Никандров, Д. Пойа, В. Д. Путилин, К. Роджерс, В. А. Сласте-нин, Л. М. Фридман, А. В. Хуторской), не означает иметь готовность и способность это сделать.
Распространение в современных школах и вузах персонализированного и деперсонализированного (массового) насилия говорит о необходимости системного и многолетнего исследования. Несмотря на богатство существующих виктимологических исследований, значительная их часть посвящена проблемам индивидуального насилия и довольно мало их касается насилия в образовании. Однако сейчас образовательные отношения становятся все более насыщенными насилием разного типа, что связано с деструкцией смыслов и форм образования, в том числе с его коммерционализацией и менеджериализацией, привносящими в эти отношения коррупцию и насилие.
Постановка задачи исследования. Осмысление проблем самостоятельности учащихся и обучающихся, а также профессиональной самостоятельности педагогов и иных специалистов образования неразрывно связано с изучением психолого-педагогических деструкций и иных нарушений в образовательных отношениях, а также в функционировании и развитии его отдельных субъектов [1–3]. Основная доля таких деструктивных трансформаций должна быть рассмотрена в рамках изменений отношений человека с собой и другими людьми и регулирующих эти отношения и совместную деятельность ценностей и идей. Цель исследования — анализ психолого-педагогических проблем формирования и развития образовательной самостоятельности в контексте задач профилактики и коррекции индивидуального и массового насилия в образовании. Метод исследования — теоретический анализ феноменов массового и индивидуального насилия в образовании как последствий и причин нарушений образовательной и профессиональной самостоятельности, осмысление образовательной и профессиональной самостоятельности как важных целевых ориентиров психологически безопасного образования, стремление к которым и достижение которых обеспечивает оперативную и перспективную профилактику и коррекцию насилия в образовательных отношениях.
Новизна исследования связана с попыткой интегративного осмысления проблем формирования и развития образовательной самостоятельности и образовательного насилия. Рассмотрение проблем самостоятельности учащихся и обучающихся в образовании связано с анализом психолого-педагогических деструкций и иных нарушений в образовательных отношениях, а также в функционировании и развитии его субъектов. Большая часть данных типов деструктивных трансформаций должна быть рассмотрена в рамках изменений отношения человека с собой и другими людьми и регулирующих эти отношения ценностей и идей [8–13].
Исследование носит разведывательный характер. Оно исходит из предположения о том, что современное среднее и высшее образование сталкивается с рядом деструктивных феноменов, включая персонализированное и деперсонализированное (массовое) насилие, основными причинами и последствиями которых выступают отсутствие и блокада формирования и развития культуры образовательных отношений, ориентация образования на формы и содержание отношений, нерелевантные образованию как институту передачи культурного опыта, включая социально-психологические компетенции, среди которых одной из наиболее значимых является самостоятельность человека — в учебе и труде, в иных видах активности.
Материалы, результаты и обсуждение
Самостоятельность как компонент социальнопсихологической компетентности. Современные образовательные отношения активно изменяются, включая их ценностно-смысловые и социально-статусные осно- вы: переход от директивно-научающей модели к модели исследовательски-диалогической, поощряющей образовательную и профессиональную самостоятельность субъектов образования. Этот переход порождает рост и изменение требований к формированию и развитию образовательной культуры и социально-психологической компетентности педагогов и учеников. При отсутствии такой компетентности и культуры образовательных отношений все более распространенными становятся случаи психопатизации (или социопатизации) отдельных индивидов и их групп или образовательных отношений, увеличение интраперсональных и интерперсональных деформаций, в том числе рост индивидуального и массового насилия и его различных форм: не найдя продуктивных каналов, активность учеников и педагогов выливается в деструктивные формы. Школа и вуз, заинтересованные в профилактике и коррекции насилия, должны предоставлять субъектам образования разнообразные формы и каналы осуществления и развития их образовательной и профессиональной самостоятельности, позволяющей гармонично, прямо и в интересах образования и общественного развития в целом удовлетворить индивидуальные запросы субъектов в самореализации и самоактуализации, осуществлении себя как самостоятельных субъектов, формировании и развитии социальнопсихологической компетентности.
Социально-психологическая компетентность как система знаний и умений организации, осуществления и завершения гармоничных, результативных социальных отношений в образовании представляет собой совокупность знаний и умений, включающих социально-психологические компетенции, дающие человеку возможность формировать, осуществлять и развивать его образовательную самостоятельность и сопутствующие ее виды. Образовательная самостоятельность как социальнопсихологическая компетенция предполагает несколько способностей и стремлений человека как ученика, как партнера и как личности, включая соответственно:
-
1) умение ставить и решать образовательные задачи, формулировать условия и ставить цели (само)обучения и (само)воспитания, в том числе автономно или совместно с педагогами и родителями выстраивать, осуществлять и корректировать персональную образовательную траекторию (маршрут);
-
2) стремление и способность быть независимым по отношению к изучаемым предметным компетенциям (знаниям и умениям), позициям и смыслам, связываемым с этими компетенциями педагогами, родителями, другими учениками, а также по отношению к смыслам и контекстам, связанным с ситуациями обучения и воспитания. В этом контексте часто пишут о рефлексивности, о «критическом мышлении» и «независимости», о «контекстном» и «метапредметном» постижении мира;
-
3) стремление и способность к творческому, нерепродуктивному отношению к себе и миру, умение извлекать смыслы и значения объекта, ситуации из самих объектов и ситуаций, видеть объект полифункционально, полистратегичность постижения человеком себя и мира.
Эти стремления и способности формируются и развиваются педагогом, в полной мере обладающим качеством самостоятельности. Это субъект, ориентирующийся во всех сторонах образовательного процесса, умеющий учить и знающий, чему и кого учить, гибко и направленно (транс)формирующий содержание, структуры и процессы обучения и воспитания в каждой конкретной образовательной ситуации. Это субъект культуры, в полной мере отвечающий требованию «ориентира», идеальной модели развития ребенка, подростка, взрослого. Его отношения с миром, включая самостоятельность, — модель построения отношений с миром для его учеников.
Особенности педагогического и организационного влияний на формирование и развитие самостоятельности учеников. Современные ученики проводят с педагогами (а также с другими специалистами образования и соучениками — сверстниками) подчас больше времени, чем с родителями. Это говорит о том, что влияние педагогов и образования на развитие человека огромно. К сожалению, многие современные реформы это влияние пытаются уменьшить, например, свести к диспетчированию и фасилитации самообучения и самовоспитания: идея самостоятельности воспринимается как идея одиночества ученика, «сам» и «один» путаются местами. Однако самостоятельный ученик — это все же ученик конкретного педагога или группы педагогов, передающих ему предметные знания и умения вместе со знаниями и умениями, относящимися к сфере социально-психологической компетентности, в том числе к самостоятельности. Как показывает системно-деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, В. В. Рубцова, непродуктивна, например, модель, при которой «тьютер не эрудит, а специалист в области способов организации работы с материалом. Задача тьютера — не отвечать на поставленные вопросы ученика, а помочь ребенку в поиске правильного решения исследовательской проблемы» [14, с. 236], а также и иные, аналогичные модели, призывающие отказаться от «диктата» педагога. Долгая традиция превозношения «демократических» стратегий преподавания была давно опровергнута и практикой, и результатами исследований образования: модели «мягкого», в том числе «индивидуализированного», образования проигрывают в результативности традиционным моделям, а модели «цифрового» образования вообще признаются близкими к его симуляциям. Однако пропаганда «мягких» моделей образования и компетенций, как якобы более важных, чем предметные, продолжается [2; 6].
Конечно, каждый педагог понимает, что в образовании неизбежны непредвиденные результаты и феномены, неизбежен и дополняющий упорядоченность образования хаос, а флуктуации помогают уточить цели, формы и содержание обучения и воспитания в конкретных ситуациях и в ближайших перспективах. Он понимает и то, что хаос как часть образовательного диалога представляет собой этап продуктивных и эффективных отношений, но этот этап не единственный, не начальный и не завершающий, хотя и важный. Управлять хаосом, иногда отказываясь от вмешательств в процесс, наблюдая и изучая его, не означает симулировать равенство. «Игры в равенство» и в самостоятельность учащихся и обучающихся не помогают образованию. Напротив, они запутывают учеников, поощряя не обоснованные компетенциями претензии на регуляцию процедурных и содержательных аспектов образования, они убеждают учеников в том, что педагог не важен, а значит, неважно и все образование, весь опыт человечества, который он представляет и который можно якобы «в любой момент» взять из текстовых и электронных пособий. На практике ученики школ и вузов отмечают, что лучшими формами образовательных отношений являются в достаточной мере директивные (авторитарные), т. е. направляющие развитие учеников, отражающие реальный, а не фиктивно-желательный статус-кво несущего культурные компетенции и ценности педагога. Роль ученика как принимающего, исследующего, присваивающего или отвергающего эти ценности остается во многом неизменной, ничем не мешая его самостоятельности: окончательное решение о том, что транслирует педагог, как на уровне предметных компетенций («жестких умений»), так и на уровне «мягких умений» и ценностей принимает сам ученик. Педагог должен осознавать и учитывать особенности своей позиции и функций по отношению к ученикам, поддерживая рефлексивные процессы и стимулируя учеников к принятию решений, отвечающих их собственным задачам и сущности [10].
Важно сознавать, что понятие директивности при всех его «инновационных» коннотациях последних десятилетий отражает всего лишь общее состояние дел в образовательных отношениях: асимметрия статусов и компетенций в отношениях педагогов и учеников есть и будет одним из условий возможности образования в целом, она особенно заметна на ранних стадиях развития. И во взрослой жизни, и даже в пожилом и старческом возрасте учителем в чем-либо становится тот, кто более компетентен: «ученик в учителе, учитель в ученике» [8, с. 75]. В случае обучения взрослых, самообучения и взаимообучения речь идет лишь о том, что эта асимметрия перераспределяется между субъектами образования или даже внутри одного субъекта. Инверсия отношений «учитель — ученик» возможна и типична, связана с реальным соотношением уровня компетенций взаимодействующих и с конкретными ситуациями и задачами педагогики, а не желаниями и иллюзиями участников образования, включая стремление к максимальной «гуманности», «паритетности» и т. п. образования. Даже в семейных играх встать на колени, чтобы оказаться вровень с маленьким играющим ребенком, создав ему в дополнение к отношениям со сверстниками психологически безопасное, диалогическое пространство и время развития, — временное, ситуативное состояние родителей. Но по окончании игры родители возвращаются в обычное состояние, встают с колен. Если родитель (наставник, опекун) продолжает стоять на коленях, чтобы быть «ближе» и «равным», чтобы имитировать несуществующее равенство, то он как минимум обманывает ребенка и самого себя. Ложь, фикция, иллюзия не помогают ребенку понять себя и мир, не позволяют найти каналы и пути реализации и развития самостоятельности, гармонично представляющие и реализующие его задачи как субъекта культуры, жизни.
Разделение формы и содержания образования, ограничение функций педагога диспетчированием возможно, хотя и нерезультативно, даже в рамках репродуктивного образовательного процесса, типичного для начальной школы. Напротив, от ступени к ступени роль педагога расширяется и углубляется. Если речь идет об образовании как со-исследовании, тьютор, наставник, фасилитатор необходимым образом должен быть и эрудитом, увлеченным постижением себя и окружающего мира, человеком-творцом, и методистом. Тогда он может помочь ученику самостоятельно работать над развитием его компетенций и культурного уровня, исследовать его внутренний и внешний мир, многообразно и гибко осмыслять их феномены, извлекать, критически и многоаспектно и многоуровнево осмысливать и применять знания и умения, в том числе в сотрудничестве с другими людьми разных социальных групп и образовательных статусов. Упрощая, можно сказать, что самостоятельный ученик воспитывается и обучается самостоятельным педагогом. Однако это именно упрощение: изменение культуры образовательных отношений требует коренного пересмотра самих причин тех ошибок и ограничений, с которыми связана репродуктивная модель образования. В первую очередь, это директивный, а порой и откровенно принудительный характер образования, часто ведущий к возникновению соответствующих деформаций у педагогов и учеников. В каких-то ситуациях и на каких-то стадиях принуждение, в том числе как самопринуждение, воля, в образовании и в жизни в целом, — необходимость. Этим образовательный труд, как и любой иной труд, отличается от игры. Однако и в играх есть правила и нормы, которые не могут меняться произвольно, что часто не учитывают так называемые геймификация и комиксоизация образования.
Но там, где насилие становится самоцелью, где субординация и подчинение ребенка, подростка, юноши или взрослого как личности, партнера и собственно ученика важнее, чем образовательная цель (цель подготовки всесторонне развитого человека), образование заканчивается. Не менее верно это и для инновационной модели: творчество и со-творчество не возникают сами по себе [15; 16]. Проблемный характер воздействия, оказываемого системой школьного и вузовского образования на проявление и развитие одаренности, связан во многом с отсутствием культуры подготовки педагогов для одаренных детей и молодежи [2; 14; 17; 18], обеднением современных программ вместо их обогащения и ориентации на высокие стандарты сложности и «зоны ближайшего развития» [19; 20].
В целом современная школа говорит о важности изменений всей образовательной среды [4; 9; 16]. Однако только совокупность условий позволяет реализовать инновационную модель образования. Сюда можно включить следующие условия:
-
1) психологически безопасную образовательную атмосферу, опирающуюся на лишенную (бессмысленного, разрушающего субъектов и их отношения) насилия культуру образовательных отношений;
-
2) творческие и методические способности и интерес к их реализации и развитию у педагогов, способных побудить к творчеству и со-исследованию учеников, стать для учеников «своими» педагогами;
-
3) наличие у учеников и их семей понимания социальной значимости и личностного смысла образования как процесса (самостоятельного и совместного) становления и осуществления человеком себя как субъекта культуры.
И если модус «совместности», как показывают исследования образовательной самостоятельности и независимости (автономности), более или менее успешно достигается там, где педагог обладает незаурядной мотивацией к развитию и сотрудничеству, сформированными знаниями и умениями в сфере методики преподавания, то модус «самостоятельности» вне системных изменений в образовании недостижим.
Деформации образовательных отношений и самостоятельности учеников. Как мы видим на примерах буллинга, моббинга, колумбайна, а также на примерах школярства, имитаций педагогической деятельности, «поверхностных» стратегий обучения и учения, лишить ученика и учителя контроля, декларировать самостоятельность и свободу, утверждать интертекстуальность и «ситуативность» знаний и умений недостаточно. В отсутствие организующего начала, творческого диалога ученика и педагога в психологически безопасной и поддерживающей развитие субъектов образования как само-актуализирующихся и самореализующихся людей среде мы получаем десакрализацию образования, отчуждение и неуважение к себе, ученикам и педагогам, «лоскутиза-цию» сознания на уровне смыслов и значений, ценностей и целей, «акультурье» и, как итог, всплеск насилия, направленного на защиту инстинктивных программ. Инстинкты благополучия (комфорта), размножения, власти и превосходства выходят на первый план, культура же, включая творчество, воспринимается как ненужная, «нагружающая», искажающая взаимодействие и жизнь. Выбор между самостоятельностью как осознанной ответственностью и свободой заменяется насилием защиты, захвата и приумножения своего комфорта, власти и т. д. Там же, где инстинктивные программы фрустрируются, возникают внутренние и внешние конфликты: обида, зависть и отмщение (месть) после более-менее длительного периода латентной агрессии переходят в агрессию открытую. Так формируется целая палитра типов насильственного поведения, ни одно из которых, тем не менее, не является сколь-либо самостоятельным.
Между дореволюционными гувернерами и домашними наставниками, советскими репетиторами и ультрамодными тьюторами и коучами есть общее — индивидуальный подход (как к процессу, так и к результатам образования). Этот подход, однако, реализуется на фоне применения относительно стандартных, унифицированных методических приемов и предоставления ученику разной меры самостоятельности (свободы выбора). При этом именно самостоятельность учеников становится наиболее сложным моментом индивидуализации и иных сторон повышения качества образования и его культуры в целом: индивидуализация требует как максимум создания условий элитарного интерната, что далеко не всегда возможно и, конечно, весьма ресурсоемко. В СССР и современной России это пока не вопрос настоящего, а за рубежом вариант параллельного сосуществования традиционных и альтернативных (новых, авторских, частных) школ, создаваемых на основе экзистенциальногуманистической, персонифицирующей и персонализирующий образование как со-творчество, парадигмы, как альтернативной традиционной репродуктивной, массовой и унифицированной школе, развивается давно.
На волне «катастрофы неравенства», связанной с «объявленной ВОЗ пандемией» (2020–2022 гг.) деформацией работы мировой системы образования, отмечается важность возврата к системе индивидуальных и (или) групповых репетиторов, которые предлагаются как дополнение к основному образованию в школах и вузах, исходя из потребностей наиболее пострадавших от условий дистанционного образования учеников [3]. Зарубежная, американская и особенно европейская система образования оказалась более подготовленной к трансформациям и деформациям постмодерна и, как это видно сейчас, даже постпостмодерна: признание катастрофических последствий перевода образования в «дистанционный» формат совершается гораздо активнее и легче, чем в России, где цифровизация образования, вопреки логике, эмпирическим данным и непосредственным наблюдениям, продолжает рекламироваться.
Однако, как пишут зарубежные исследователи, помимо стресса, депрессивных и невротических реакций, ставших распространенными следствиями локдаунов 2020–2022 гг., помимо фактической остановки работы системы образования, нарушения, с которыми столкнулись ученики, существенно серьезнее. Дети, подростки, юноши увидели, сколь мало их будущее интересует взрослых, сколь легко проблемы их прав на образование игнорируются там, где превыше всего ставятся интересы бизнеса и власти. Ощущение неполноценности, ненужности, неспособности повлиять на ситуацию сформировало тенденции к социальной дезадаптации, особенно выраженной у 80% детей и иных учеников (прежде всего из семей с низким уровнем образования у родителей и иных членов), фактически забросивших обучение. Поражение чувства собственной значимости, достоинства завершило формирование того, что зарубежные исследователи назвали «катастрофой неравенства»: часть учеников, как это очевидно, так и останутся пораженными в правах на образование, несмотря на попытки компенсации нанесенных им локдаунами потерь [3].
Маркеры нарушения самостоятельности и социальной дезадаптации как причины и последствия образовательного и иного насилия таковы:
-
1) (ауто)агрессивное поведение и отношение, при котором человек перестает стремиться к взаимопониманию, сотрудничеству, взаимному принятию, основным способом взаимодействия становится агрессивная открытая или латентная манипуляция или насилие;
-
2) уход в себя, замкнутость, отчужденность, эгоизм, при котором человек блокирует общение и отношения, перестает рассчитывать на помощь других людей, поэтому со временем ему все труднее построить, поддерживать или восстановить отношения, вернуться в социум, коллектив. Он избегает травмирующих, но развивающих столкновений;
-
3) социофобия как потеря потребности в социальных контактах, состояние одиночества и самоизоляции, страх людей и отсутствие социальных проектов, личность деформируется, разрушается и утрачивает все связи с окружением, вплоть до семейных;
-
4) нежелание подчиняться внешним требованиям общества, анормативность, десакрализация, отвержение ценностей в виде бунта, насильственных действий, желание отомстить за неудачи жизни и невозможность самоосуществления и расправиться и т. д. [7, с. 160].
Когда формирование и развитие самостоятельности ограничивается декларациями, а культура образовательных отношений либо отсутствует, либо опирается на утрированные ценности и смыслы репрессивнодирективной модели, наблюдается активное увеличение интраперсональных и интерперсональных деформаций, в том числе рост индивидуального и массового насилия и его различных форм, например, школярства и имитаций образовательной деятельности и даже социальной активности у учеников (на фоне тенденции к отчуждению и даже изоляции от общества), ресентимента и имитации деятельности обучения и воспитания у педагогов, матетогений и педиогений, образовательного буллинга (сталкинга), «точечного» и массового насилия [2; 13]. Многие из этих феноменов связываются со «стрессами инноваций» и псевдоинновациями — изменениями, цели и пути которых остаются непонятыми и непринятыми учениками и педагогами. Такие новации ведут к формированию психологически опасной образовательной среды, росту насилия и блокаде самостоятельности субъектов образования.
В рамках директивно-научающей модели, интерпретируемой как необходимость репрессивного контроля над четким соблюдением требований педагога, образовательная самостоятельность как социальнопсихологическая компетенция складывается обычно спорадически, у некоторых учащихся старших классов и студентов вузов, скорее, под влиянием семейных традиций или опыта взаимодействия с педагогом, транслирующим ценность самостоятельности. Чаще всего такая директивно-научающая модель, акцентирующая репрессивно-контролирующие функции педагога, предполагает обратное: она формирует и поддерживает школярство, имитации и иные проявления несамостоятельности школьников и студентов как учеников, как партнеров и как личностей, включая соответственно:
-
— их неспособность и неготовность ставить и решать образовательные задачи, формулировать условия и ставить цели (само)обучения и (само)воспитания. Школяры — учащиеся и обучающиеся, не способные сформулировать личностный смысл образования, цели и ценности образования для них носят внешний, отчужденный, потребительский характер, нередко сводясь к получению документов об образовании как «пропусков» в мире, где они смогут наконец реализовать свои истинные цели и ценности: благополучия и комфорта, власти и превосходства, удовольствия и размножения, т. е. те биологически заданные инстинкты, которые формируются и развиваются помимо, вне образовательных целей и ценностей;
-
— их неспособность и неготовность быть независимыми по отношению к изучаемым им предметным знаниям и умениям, позициям и смыслам, связываемым с этими компетенциями педагогами, родителями, другими учениками, а также по отношению к конкретным ситуациям обучения и воспитания. Яркий пример — нежелание учиться, переходящее в уверенность в том, что многие знания и умения, которые дают школа и вуз, лишние, и в том, что они знают и умеют достаточно, чтобы не только реализовать программы благополучия, размножения, власти и превосходства, но и считать себя компетентными настолько, чтобы транслировать свои (присвоенные) модели далее. Будучи родителями, такие люди стремятся ограничить образовательные маршруты своих и порой чужих детей, подростков, юношей теми сценарными рамками, которые они присвоили и транслируют дальше. Будучи представителями системы образования, такие люди вносят вклад в «освобождение» школьных и вузовских программ от тех предметов, компетенций и т. д., которые полагают «лишними», например, гуманитарных;
-
— их неспособность и неготовность к творческому, нерепродуктивному отношению к себе и миру, умение извлекать смыслы и значения объекта, ситуации из самих объектов и ситуаций, их стремление и способность видеть мир как мир фиксированных функций, одномерное понимание себя и мира — основа психопатизации (социо-патизации), описанной современными и традиционными психологами, педагогами и социологами как проявление мещанства, потребительства, фашизма.
Эта модель существенно выигрывает, если дополняется сознательным, направленным поощрением активности и самостоятельности учеников, утверждением их достоинства и опыта, ориентацией на «зоны ближайшего развития» и достаточной образовательной и иной нагрузкой учеников, работой педагогического коллектива со всем образовательным коллективом.
В случае же попустительства поощрение «стратегических» или замещающих форм активности не приводит ни к чему: «демократическое» образование часто впадает в крайность, поскольку позволяет имитировать образовательную и профессиональную деятельность, экономить усилия и симулировать образовательный процесс и его результаты. Например, это может касаться практики «домашнего обучения» и экстерната, востребованность которых будет в ближайшее время в нашей стране и во всем мире расти: родителей и самих учеников беспокоят отсутствие качества образования и иные опасности, поджидающие учащихся и обучающихся, а школам и вузам, экзаменующим компетенции данных учеников, нет никакого дела до качества их знаний и умений и тем более не проверяемых никем результатов оценивания этих знаний и умений. В целом единственной надеждой такого образования остаются внутренняя мотивация учеников и мотивация их семьи, побеждающей и направляющей активность детей.
В самом образовании перечисленные выше неспособности и неготовности связаны с рядом аддикций и многими иными физиологическими, психологическими, нравственными и социальными деформациями [2].
Развитие самостоятельности в профилактике и коррекции последствий образовательного насилия. Перечень нарушений образовательных отношений, помимо образовательной неуспеваемости как неумения и нежелания учиться, навязчивой «зубрежки» и иных проявлений «стратегического», потребительского отношения учеников к образованию, затрагивает многие иные личностные, межличностные и образовательнопрофессиональные аспекты функционирования и развития человека, включая его готовность и способность развиваться (страх и отказ от развития, названный А. Маслоу синдромом Ионы) [11]. Многие из них связаны с состояниями зависимости, а также с отношениями насилия как причины и как следствия зависимости (несамостоятельности) ученика. Насилие порождается отсутствием или деформациями культуры образовательных отношений и усиливает их, прежде всего ограничивая возможность и способность человека быть самим собой, понимать внешний и внутренний мир из них самих, а не из тех смыслов и ценностей, которые с разной мерой настойчивости транслируют или откровенно навязывают более или менее влиятельные (референтные, «значимые», численно преобладающие и т. п.) другие люди и субъекты.
Необходимо направленно работать в сфере развития самостоятельности, профилактики и коррекции социальной дезадаптации как причины и последствий образовательного и иного насилия:
-
1) развивать отношения взаимной поддержки и психологической безопасности, ощущение защищенности и «тыла» в отношениях с другими субъектами образования;
-
2) помогать строить и развивать отношения с другими людьми, преодолевать отчуждение и изоляцию, ощущение взаимной нужности людей, стимулировать стремление и обеспечивать основы отношений взаимопонимания, сотрудничества, взаимного принятия;
-
3) помогать правильно относиться к асимметриям в отношениях, восстановить и укрепить субъективноличностную и социальную ценность образовательных и иных человеческих отношений, укреплять ощущение самоценности у субъектов образования;
-
4) развивать самостоятельность и стремление осознавать, исследовать, рефлексировать мир внутри и вокруг себя, принимая собственные решения в ситуации обеспеченности качественным образовательным «контентом» и т. д.
Таким образом, анализ психолого-педагогических проблем формирования и развития образовательной самостоятельности в контексте задач профилактики и коррекции индивидуального и массового насилия в образовании показывает, что разные модели и системы образования в разной мере поддерживают и провоцируют насильственные системы отношений его субъектов. Теоретический анализ феноменов массового и индивидуального насилия в образовании позволяет рассматривать его последствия и причины нарушений образовательной и профессиональной самостоятельности, подчеркивает важность активизации самостоятельности учеников, а также учителей и в образовании, и вне него.
Выводы
-
1. Проблематика самостоятельности учащихся и обучающихся во многом интегрирует проблемы психолого-педагогических нарушений в образовательных отношениях, функционирования и развития его отдельных субъектов. Деструкции отношений человека с собой и другими людьми в образовании, деформации
-
2. Для коррекции этих нарушений необходимо вернуться к базовым для образования смыслам, ценностям, моделям взаимодействия субъектов образования друг с другом и т. д., добиться того, чтобы участники образования стали самостоятельными и сотрудничающими его субъектами. Это требует осмысления образовательной и профессиональной самостоятельности как важных целевых ориентиров психологически безопасного образования, стремление к которым и достижение которых обеспечивает оперативную и перспективную профилактику и коррекцию насилия в образовании на уровне как «персонализированного» и направленного буллинга, так и более массовых и «спонтанных» форм насилия, включая колумбайн.
регулирующих эти отношения и совместную деятельность ценностей и смыслов, моделей поведения и взаимодействия влияют на деструкции образования, приводя к эскалации насилия и иных необразовательных форм активности и отношений.
Область применения и перспективы исследования. Предполагаются разработка и внедрение целостной модели работы образовательного учреждения по предупреждению и коррекции персонализированного и деперсонализированного (массового) насилия путем формирования и развития самостоятельности и общей гармонизации отношений в системе образования.