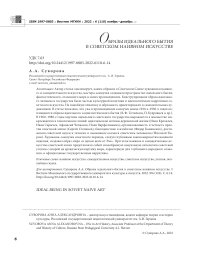Образы идеального бытия в советском наивном искусстве
Автор: Суворова Анна Александровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика
Статья в выпуске: 6 (110), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи анализирует, каким образом в Советском Союзе художники наивного и самодеятельного искусства, мастера самоучки создавали пространство идеального бытия, фантастического, эталонного мира в своих произведениях. Конструирование образа идеального человека и государства было частью культурной политики и идеологических нарративов советского искусства. На подобную тематику и образность ориентировали и самодеятельных художников. В статье показано, что уже в произведениях самоучек конца 1920х 1930х годов воплощаются образы идеального социалистического бытия (В. Ф. Точилкин, П. Кудрявцев и др.). В 1960198 еские мотивы деревенской жизни (Иван Крохалев, Иван Сарычев, Афанасий Чепкасов, Нина Варфоломеева), организованность и четкость практик советской эпохи (Сергей Степанов), благоденствие и изобилие (Федор Каменских), достижения советской науки и техники и завоевание космоса советским человеком (Николай Тюрин). Художник самоучка советского периода, следуя глубинным закономерностям наивного видения, создавал образ мира «в одном шаге от Рая». При этом наивное и самодеятельное искусство советской эпохи представляло собой своеобразную визуальную антологию советской утопии с опорой на архаическую картину мира, характерную для глубинного народного сознания, и официальные государственные нарративы.
Наивное искусство, самодеятельное искусство, советское искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/144162495
IDR: 144162495 | УДК: 7.03 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-6110-6-14
Текст научной статьи Образы идеального бытия в советском наивном искусстве
Художники наивного и самодеятельного искусства, мастера-самоучки часто создают образ идеального бытия, фантастического эталонного мира в своих произведениях [2, 3, 4, 6, 14]. Культуролог Анна Рылева пишет: «… Наивное видение (делание) – это простодушное делание своего “мира впервые” ( в одном шаге от Рая) при желании и невозможности в него вернуться , завершающееся радостью от сотворенного» [ курсив автора ] [6, с. 49]. По мысли исследовательницы, чтобы вернуться в утраченный человеком Эдем, «войти в радость», нужно стать творцом своего «впервые-бытия» [6, с. 48]. Это создание идеального мира можно назвать некоторой родовой характеристикой наива, присущей творчеству самоучек в целом, живут ли они в Европе или Америке, в XIX или уже в начале XXI века. Мир наивного искусства можно сопоставить с логикой «волшебной сказки», в которой в итоге все складывается наиболее благоприятным для главного героя образом, несмотря на возможные злоключения и перипетии.
В советском искусстве конструирование идеального человека и государства было частью культурной политики, идеологические нарративы реализовывались в художественных образах [16; 19]. В этом можно увидеть некоторое, возможно до конца не рефлекси-руемое со стороны власти, совпадение эстетики и смысловых интенций. С одной стороны, наивный художник, который «заботливо» встраивается в институты государства и развивается «под крылом» самодеятельных кружков и студий, тяготеет к созданию образов идеального бытия. С другой стороны, формируемый в 1930-е годы Gesamtkunstwerk сталинской эпохи воплощает разработанную идеологами утопию тотального благоденствия, счастья и радости (эти мифологемы можно увидеть в сюжетах и образах кинематографа, изобразительного искусства, литературы – произведениях, создаваемых профессионалами в рамках государственного заказа) [16; 19].
На подобную тематику и образность ориентировали и художников самодеятельного искусства. В картинах идеального мира, кон- струируемого в сознании наивных художников и мастеров-самоучек, а также в творчестве самодеятельных художников (которое в данном случае мы рассматриваем как форму институционализации, где задавалась большая связность с официальными нарративами) возможно выявить ряд закономерностей и особенностей.
В этом свете новый проект искусства, разворачиваемый на рубеже 1920–1930-х годов, предполагал жесткое управление формой и содержанием искусства [16]. Власть стремилась уже не к идее сотворчества и со-деятельности (как это мыслилось, например, идеологами Пролеткульта), а к четкой формулировке задания и к правильному результату. Самодеятельному искусству была предписана очень конкретная задача – стать «голосом народа» [8]. Темы для картин самодеятельных авторов, их отбор для публичного показа были выверены по идеологическому нивелиру, а «срежиссированное» самодеятельное искусство должно было стать свидетельством расцвета социалистической культуры и оптимизма многонационального и бесклассового советского народа.
В 1935 году в Москве состоялась грандиозная по масштабу Первая Всероссийская выставка работ колхозных самодеятельных художников. Жизнь и быт советского колхозника живописались в восторженных тонах. На картинах изображались «выдающиеся по своим качествам овощи колхозных огородов, плоды колхозных садов и та новая посуда и пища, которая появилась на столе колхозника и отображает новую действительность» [4, с. 163]. Быт рабочего, воплощаемый в картинах самоучек, также должен был рассказывать о скорой победе коммунизма. Так, в журнале «Искусство» описывается одна из картин с выставки самодеятельных колхозных художников «В заводском общежитии» чертежницы Лидии Бахман: «Отменная чистота: много воздуха и света. Хорошие металлические кровати. Радио. Полки с книгами. Девушка за столом читает газету, другие слушают… Все это достижения социализма» [Цит. по 4, с. 164].
Картины самоучек 1930-х годов парадоксальным образом одновременно и конструируют мир идеальной утопии, и рефлексируют события, разворачивающиеся в реальности, но в своеобразной, «очищенной» от драматического и болезненного, форме. Так, в картине В. Ф. Точилкина «Лишенцы» (1930-е) под лозунгом «ЦАРСКИМ СЛУГАМ ГЕНЕРАЛАМ ФАБРИКАНТАМ ПОМЕЩИКАМ ПОПАМ НЕТ МЕСТА В СОВЕТАХ» [ авторская пунктуация сохранена – А.С. ] в аккуратную очередь к уполномоченному, восседающему за письменным столом, выстроились названные категории лишенцев. Вся композиция написана в мажорных тонах и утверждает правильность нового миропорядка. Точилкин одновременно и представляет наивное видение, и воплощает, визуализирует «линию партии». Формально автор картины был частью системы управления искусством: с конца 1920-х годов он состоял на должности председателя Общества художников-самоучек при Ассоциации художников революционной России.
Освобожденный от чуждых классов и элементов мир советской утопии – это пространство созидательного труда, промышленного, ремесленного, аграрного, место всеобщей грамотности и порядка, где за всем с портрета на стене наблюдает мудрый Вождь. В картине П. Кудрявцева «Проводы в школу» (1936) в чистой и светлой деревенской избе заботливая мать отправляет школьника на занятия, на лавке с книжкой сидят два аккуратных малыша. А на все эти «достижения социализма» со стены взирает Владимир Ленин. Вполне симптоматично, что этот мастер-самоучка был участником Всесоюзной выставки самодеятельных художников, проходившей в Москве в 1937 году – события, репрезентирующего идеальный советский строй.
Таким образом, уже в произведениях наивных и самодеятельных художников конца 1920–1930-х годов воплощаются образы идеального социалистического бытия. Парадоксально, но логика наивного архаического сознания оказалась сопредельна картине мира, конструируемой советской идеологией. Идео- логи нового государства создают «советскую вселенную» по мифологическим моделям. В этом рождающемся универсуме есть «начало новой эры» – великая революция; битва добра со злом, т. е. коммунизма с мировым империализмом; свои титаны и боги – вожди и герои-революционеры [9]. По мысли исследователей раннего этапа развития творчества самоучек в СССР, с точки зрения институционального функционирования, изобразительная самодеятельность не являлась спонтанным проявлением творческой деятельности трудящихся масс, а была спланированным и получавшем руководство на всех уровнях процессом в русле общекультурных трансформаций в СССР 1920–1930-х годов [5].
Новый виток интереса к наивному искусству и самодеятельному творчеству приходится на 1960-е – первую половину 1980-х годов. Работа различных институций самодеятельного искусства (художественные студии, Заочный народный университет искусств, выставки, смотры, фестивали и пр.) была соподчинена существующим официальным установкам. Эти связи оказывали влияние и на нарративы наивного и самодеятельного искусства. Также в искусстве самоучек этого периода заметно влияние массовой культуры. Последнее также было важным и для не подчиненных официальным институциям художников наивного искусства. В нарративы и стилистику самодеятельного советского искусства оказывались включенными сюжеты и темы, транслируемые официальной советской культурой, образность и визуальные решения советского плаката, иллюстраций, кинематографа, тиражированные советской прессой живопись и графика [8].
В 1960-е – первую половину 1980-х годов темы идеального советского государства продолжают развитие за счет множества микросюжетов и тематических линий. То есть помимо автодидактичности и связи с глубинной народной культурой образ мира в искусстве этих мастеров в период «оттепели» и эпоху застоя был обусловлен обозначенными внешними влияниями.
Тема традиционного жизненного уклада, крестьянского быта, работы «на земле» часто появляется в картинах наивов этого времени. Художники-самоучки советского периода – это часто люди, живущие в сельской местности или связанные с ней воспоминаниями детства и юности. В произведениях советских наивов можно увидеть идиллические картины советской деревни, что во многом смыкается с официальными советскими нарративами о колхозной деревне. Сцены молотьбы и рубки дров, зимних ремесленных занятий, «вечóрок» и танцев во дворе воплощаются как мотивы идеального бытия у уральцев Ивана Крохалева (1899–1985), Нины (Евфимии) Варфоломеевой (1919–2008) и Ивана Сарычева (1910–1990). Безмятежность пейзажей и покой сельской жизни изображают Александр Суворов (1913– 1999) и Афанасий Чепкасов (1921–2002).
Мир природного – сельских ландшафтов, мотивов лесов и полей – как некоторое воплощение образа идеального бытия достаточно часто возникают в картинах наивных художников, работающих в жанре пейзажа. В наивном искусстве советского периода пейзаж, ландшафты с включением стаффажных фигурок крестьян, жанровые сцены появляются как некоторое воплощение мыслимого, но не существующего мира (как, например, в творчестве уральского художника Ивана Крохалева, работающего этой образностью еще с середины ХХ века [8, с. 78–79]).
Близки этим темам и оптикам и работы Ивана Сарычева. Его жизнь была несколько десятков лет связана с деревней: он там родился, жил до призыва на фронт и в послевоенные годы [11, с. 96]. И хотя с 1950-х годов Сарычев стал горожанином, но, начав рисовать на пенсии, он создает своеобразную живописную энциклопедию народной жизни. Его картины «Обмолот снопов на току (конная тяга)» (1986), «Валенки (битье шерсти)» (1989), «Валенки (сметка по шаблону)» (1983) воплощают пространство идеального бытия, где всякому занятию и человеку есть свое место, а время течет в бесконечном цикле смены времен года, образуя круг жизни.
В мотивах гуашей Нины (Евфимии) Варфоломеевой, создаваемых ею с середины 1970-х годов, представляются воспоминания ее детства в колхозной деревне. Будущая наивная художница родилась в сибирской деревне Александровка. Идиллия сельского быта, которую она воплощает в своих картинах в зрелые годы, имела мало связи с реальностью 1930-х годов, времени, когда она – в связи с арестом отца и болезнью матери – стала в тринадцать лет единственной кормилицей в семье [7, с. 290–291].
Эстетика и логика идиллических картин Нины Варфоломеевой обусловлена специфической «гибридизацией», соединением собственного образа «эталонного бытия», характерного для народного, традиционного сознания, и визуальности русского реалистического пейзажа, который она видит на картинах Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Алексея Саврасова. Картины профессиональных художников копируются ею со страниц книг и журналов (прием, часто используемый художниками самодеятельного и наивного искусства). О такой гибридности сознания (а в этом случай Нины Варфоломеевой не исключение, а, скорее, правило советского наивного искусства) пишет культуролог, исследовательница творчества самоучек Татьяна Синельникова: «Художница, несомненно, обладала рудиментами именно фольклорной картины мира, хотя Нина Ивановна занималась собственным эстетическим образованием – ездила к брату в Ленинград и посещала музеи и дворцы города, жадно усваивая опыт мирового искусства, читала книги об известных художниках и их произведениях» [7, с. 295].
Сцены традиционного труда на картинках Варфоломеевой (молотьба, жатва, заготовка дров) дополняются праздничными сюжетами – танцами и гуляниями парней и девушек. Наивная художница, хотя и опирается на вспоминаемые реалии, но в ее сюжетах это трансформируется в идиллический конструкт, создаваемый образ некогда утраченного рая. В пластических решениях – ритмизации элементов, акцентированной яркости палитры, уплощении изображения – также проявляется этот образ идеального, хотя здесь присутствует и влияние некоторого «государственного заказа» [7].
Образы пейзажа как воплощения идиллии земного бытия присутствуют в творчестве тверского художника Александра Суворова. Его история жизни, также как и многих наивов советского времени, связана с деревней, что во многом обуславливает следование традиционной картине мира. Суворов родился в селе Волнога Тверской губернии; успев поучиться в школе один год, был отдан в ученики к сапожнику; после работал в колхозе и на железной дороге [12, с. 171]. Только в 1970-е годы он начинает рисовать и резать из дерева. Но в то же время, как и в случаях с Ниной Варфоломеевой, Иваном Крохалевым, мы видим в творчестве Суворова влияние «большого искусства» и массовой культуры: он вдохновляется репродукциями картин Ивана Айвазовского или ремесленными деревянными игрушками, увиденными в магазине в Кимрах [12, с. 171].
Сюжеты и темы, которые привлекают Александра Суворова в живописи,– идиллические пейзажи со сценами охоты, грибники, лесные звери, бродящие на опушке леса. В этом пространстве изначального бытия художника-самоучки человек – часть традиционного универсума, гармонически сосуществующая с миром природы. В искусстве наивного художника есть и темы традиционного крестьянского труда («Старик-пахарь», 1990), и сюжеты, «подсмотренные» в реальной жизни («Рыболек», 1990-е). Но также, помимо сюжетов и тем произведений, ощущение идеального создает формальный строй картин Александра Суворова: пространство пейзажа всегда уравновешено и спокойно в линеарном и тектоническом решении, ритмы форм и деталей продлевают это ощущение умиротворенности, колорит картин построен на нюансах и гармоничных сочетаниях разных оттенков зеленого, охристого, голубого.
Творчеству Александра Суворова близки мотивы и сцены колхозной деревни Афанасия Чепкасова, самодеятельного художника, родившегося в деревне Ипаты Пермской губернии и жившего в Свердловской области. Призванный в армию еще в апреле 1941 года, он получил ранение в первый же день войны и остался инвалидом; после работал счетоводом и художником-оформителем [12, с. 271]. Как характеризует творчество Чепкасова этнограф, культуролог Андрей Бобрихин, полотна самоучки «[…] воплощают идеализированное представление о повседневной трудовой жизни, быте и праздниках простых уральцев» [1, с. 66]. Это ощущение идеализации отсылает нас к канонам советской официальной пропаганды, в творчестве самоучки «[…] сказались поэтика и семиотика фотографии советской печати – как репортажной, так и парадной» [1, с. 66].
То есть в творчестве Афанасия Чепкасова в большой степени проявляется некоторый канон «государственной» идеальной картины мира, которая была разделяема и принимаема художником-самоучкой. Ощущение «государственного оптимизма», воплощенной утопии присутствует в сюжетах и нарративах его картин: «В картинах А. С. Чепкасова открытые лица сияют радостью, а трудовые усилия легки и приятны, кажется, будто героика социалистического труда и романтический образ советской повседневности звучат духовыми оркестрами, трепещут кумачовыми полотнами и плещутся овациями!» [1, с. 66, 68]. Примерами таких решений являются картины Афанасия Чепкасова «Почта» (1972), «Лето. День» (1986), «Весна. Утро» (1986).
Образы нормированной и «огосударствленной» утопии воплощаются в произведениях и другого круга художников. Официальный дискурс советской реальности подразумевал четкое следование инструкциям и правилам в разных практиках, будь то социалистический быт или бюрократизированные процессы общественной жизни. Орский художник Сергей Степанов (1923–1995), пройдя войну, большую часть жизни работал в совхозе и при этом еще в 1966 году поступил учиться в Заочный народный университет искусств. Но годы учебы не слишком повлияли на его мировидение и эстетику искусства [12, с. 165].
В произведениях Степанова в некоторых эталонных практиках перед нами предстает картина советской жизни: избрание президиума собрания, советский суд, проведение политинформации в совхозе, встреча родственников. Этот мир как будто бы овеществленные советские инструкции. Он лишен случайного, экспрессии, эмоции; персонажи четко следуют определенному правильному порядку действий; все вещи лежат на своих местах. Вымышленная реальность в своей точности и выверенности несет черты утопии.
Специфика языка наивного искусства, соединяясь с парадигмальной установкой на «правильность» идеологической системы, создает удивительные гибридные образы советской утопии. Так, в картине Сергея Степанова «Выдвижение президиума» (1960-е) в пространстве композиционно симметричной сцены за покрытым кумачом столом восседает председатель собрания в аккуратном костюме, над его головой «лампочка Ильича», а еще выше – лозунг с пунцовой надписью: «Решения XXIII съезда КПСС – всенародная программа строительства коммунизма». Советская ритуальность смыкается с архаикой народного сознания, призыв партии осеняет этот мир идеального. Идеологические практики проникают и, казалось бы, в далекие от официоза сюжеты. Например, на картине «В совхозе “Заречном” на парниках» (1975) осенние работы уже завершены: слева пустые грядки, педантично перекопанные квадрат за квадратом; справа работницы совхоза, сложив ручки на коленях, слушают чтение газеты, очевидно, идет политинформация.
Практики повседневности у Сергея Степанова – также пространство мира эталонного, очищенного от случайностей, «помарок», несовершенств. Мать и дочь на одноименной картине 1970-х годов находятся в пугающе симметричном, зеркальном пространстве комнаты: слева и справа безупречно застеленные кровати с никелированными спинками и стопой подушек, коврики и картины с букетами, пустое и прозрачное пространство за окном. Женщины тоже почти одинаковы, в темных одеждах, сидящие друг напротив друга, мать с покрытой головой, дочь с книгой в руке.
Тема изобилия и благоденствия является архитипической для народного искусства и часто появляется в произведениях у наивных художников. В творчестве советских художников-самоучек это благоденствие – достижения социализма и мудрого руководства партии. Так, в произведениях нижнетагильца Федора Каменских (1908–1995) мотивы изобилия имеют маркеры советского: роскошные натюрморты с дарами природы, нарезными батонами и «дюшесом» располагаются в окружении кумачовых лозунгов, говорящих о величии СССР, и гербов.
Среди картин Федора Каменских выделяется «День железнодорожника» (1988) – тема, которая перекликается с его профессиональной деятельностью. Каменских работал на железной дороге, отсюда и особый акцент в тексте лозунга: «СССР – великая ж. д. держава. 150 тыс. к/м. равен ее ж. д. путь» [ авторская орфография и пунктуация сохранены – А.С. ]. Пространство картины удивительным образом соединяет в себе достижения советской науки и техники (летящий самолет, локомотив и вагоны, автомобили нарядных цветов) и педантично написанную идеализированную уральскую природу (голубое сияющее небо, лес, озеро и, конечно, березы). Все пространство картины заполнено веселящимися и отдыхающими людьми: кто-то танцует вприсядку, играет на гармошке (по-видимому, это сам автор), удит рыбу, плавает на лодке. Здесь же, на поляне, как и подобает быть в земном раю,– изобильный стол с дымящимся самоваром и разной снедью.
Достижения советской науки и техники и завоевание космоса советским человеком, начиная с 1960-х годов, стали важной частью доминирующего властного нарратива. В творчестве советских самоучек эти мотивы, казалось бы, парадоксально часто используются. Так, у уральского художника-самоучки Николая Тюрина (1926–2016) «подсмотрены» с миллионно тиражированных открыток, продававшихся в каждом советском газетном кио- ске, два портрета «гордости СССР» – «первого человека в космосе» и «первой женщины в космосе», Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Метод наивного копирования «официальных документов» применяется в другой «космической» картине Николая Тюрина «Космонавты на родной земле», изображающей, на первый взгляд, абсолютную фантасмагорию: двоих космонавтов с дубинами в руках в заснеженном лесу, которые встречают там охотника на лыжах с винтовкой наперевес. Отправной точкой сюжета послужила история о приземлении в 1965 году космонавтов П. И. Беляева и А. А. Леонова [9].
Таким образом, наивное и самодеятельное искусство советского периода представляет собой в своем роде визуальную антологию советской утопии, которая сконструирована с опорой на два фундаментальных основания: архаическую картину мира, характерную для глубинного народного сознания, и официальные государственные нарративы.
Картины самоучек конца 1920-х-1930-х годов парадоксальным образом и конструируют мир идеальной утопии, и предлагают рефлексию событий, разворачивающихся в реальности, но в своеобразной форме, «очищенной» от драматических и болезненных моментов (В. Ф. Точилкин, П. Кудрявцев и др.). В 1960–1980-е годы картина идеального советского государства воплощается во множестве микросюжетов и тематических линий: идиллические мотивы деревенской жизни (Иван Крохалев, Иван Сарычев, Афанасий Чепка-сов, Нина Варфоломеева), организованность и четкость практик советской эпохи (Сергей Степанов), благоденствие и изобилие (Федор Каменских), достижения советской науки и техники и завоевание космоса советским человеком (Николай Тюрин).
Миропорядок утопической картины мира наивных художников советского периода включает сцены труда, чаще сельского, как некоторого пространства исконного бытия; упорядоченные ритуалы и маркеры советской идеологии; сцены быта и празднества; архаические картины изобилия и благоденствия,
воплощаемые в современном антураже. Наивный художник советского периода, следуя глубинным закономерностям наивного видения, создает образ мира «в одном шаге от Рая», но парадоксальным образом мотивами и сюжетами этого придуманного рая часто оказывается идеализированная советская действительность и образцовый советский человек.