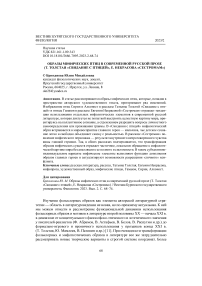Образы мифических птиц в современной русской прозе (Т. Толстая «Свидание с птицей», Е. Некрасова «Сестромам»)
Автор: Брюханова Юлия Михайловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются образы мифических птиц, которые, попадая в пространство авторского художественного текста, претерпевают ряд изменений. Изображение птиц Сирин и Алконост в рассказе Татьяны Толстой «Свидание с птицей» и птицы Гамаюн в рассказе Евгении Некрасовой «Сестромам» отражает тенденцию использования отдельных мифологических элементов в современной русской литературе, которая диктуется не попыткой выстроить целостную картину мира, ориентируясь на коллективное сознание, а стремлением разрешить вопросы личностного самоопределения или проживания травмы. В «Свидании с птицей» мифологический образ встраивается в мировосприятие главного героя - мальчика, чье детское сознание легко и свободно объединяет сказку с реальностью. В рассказе «Сестромам» появление мифического персонажа - результат внутреннего непроговоренного чувства вины главной героини. Так, в обоих рассказах подчеркивается, что трансформация образов мифических существ отражает частичное, локальное обращение к мифологической картине мира без апелляции к ее полноте и системности. В таком субъективно- индивидуальном варианте мифические элементы выполняют функцию дополнения образов главных героев и актуализируют возможности разрешения «личного» конфликта.
Русская литература, рассказ, татьяна толстая, евгения некрасова, мифопроза, художественный образ, мифические птицы, гамаюн, сирин, алконост
Короткий адрес: https://sciup.org/148326731
IDR: 148326731 | УДК: 821.161.1.09-343 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-68-74
Текст научной статьи Образы мифических птиц в современной русской прозе (Т. Толстая «Свидание с птицей», Е. Некрасова «Сестромам»)
Изучение фольклорных образов как элемента авторской литературной стратегии — область в литературоведении не новая, но по-прежнему актуальная. К ней мы можем отнести и рассмотрение функциональной динамики использования фольклорных образов и мотивов в литературе второй половины ХХ — начала ХХI в. в диапазоне от концептуального философско-этического и эстетического значения у писателей-реалистов (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин и др.) до формально-игрового и ироничного использования у прозаиков конца ХХI в. (Т. Толстая, Ю. Мамлеев, В. Пелевин и др.) [11]. При очевидности трансформации фольклорных и мифопоэтических образов в литературе все же затруднительно рассматривать новые творческие варианты в строгой системе координат. Более того, русская литература последних пяти-десяти лет дает новые способы апелляции к фольклорным образам, что требует расширения материала для изучения.
Обращение к творчеству двух современных писателей — Татьяны Толстой и Евгении Некрасовой — позволяет представить в сравнительном аспекте реализацию фольклорных образов мифических птиц и локализовать в жанре рассказа некоторые аспекты взаимодействия мифологического и литературного дискурсов.
Произведения Татьяны Толстой (1951 г. р.) неоднократно становились объектом критической, научной, читательской рецепции. Рассказы Т. Толстой и ее роман «Кысь» рассматривают в контексте постмодернизма [3], условно-метафорической прозы [9], синтеза реализма и постмодернизма [4] и др. При разности взглядов на основу художественного стиля писательницы не требует подтверждения тезис о том, что Толстая активно включает в свой художественный мир мифологические и фольклорные образы.
Евгения Некрасова (1985 г. р.) — более молодой автор, но с уже сложившимся «голосом». Наиболее заметные ее произведения — это роман «Калечина-Мале-чина», сборники «Сестромам. О тех, кто будет маяться» и «Домовая любовь».
Исследователь А. Жучкова отмечает прозу Некрасовой как один из ярких примеров современной мифопрозы, которая в период 2015–2020 гг. в связи с переходом русской литературы в эпоху метамодернизма становится — вместе с ав-тофикшн (об автофикшн см.: [2]) — важнейшей художественной формой. Так, Евгения Некрасова наряду с такими писателями, как Ирина Богатырева, Шамиль Идиатуллин, Дарья Бобылева, Александр Григоренко, Андрей Рубанов и др., пытается найти обоснование для нашей жизни и выходит к мифу, этой универсальной концепции бытия. Однако в современной русской прозе миф не столько объясняет устройство мироздания, сколько фиксирует отдельные элементы системы. Мы наблюдаем не прямое следование мифу, а привлечение мифа к интересующей автора теме [1].
Активизация в произведениях Т. Толстой и Е. Некрасовой закрепленных в культуре и традиции мифологических образов дает основание для сопоставительного анализа творчества писательниц. Материалом для изучения выбран рассказ «Свидание с птицей», вошедший в первую книгу рассказов Т. Толстой «На золотом крыльце сидели…» (1987), и рассказ «Сестромам» Е. Некрасовой, который впервые был опубликован в журнале «Знамя» (2015, № 1). В них в центре образной системы и сюжетного пространства оказываются образы мифических птиц — Сирин и Гамаюн.
В средневековой мифологии Сирин — райская птица-дева, образ которой восходит к древнегреческим сиренам. В русских духовных стихах Сирин, спускаясь из рая на землю, зачаровывает людей своим пением. В западноевропейских легендах Сирин — воплощение несчастной души [7, с. 438]. Но главный герой рассказа Т. Толстой — мальчик Петя — получает совершенно иное объяснение, когда вдруг видит в книжке «птицу — не птицу, женщину — не женщину»: «Это птица Сирин, птица смерти. Ты ее бойся: задушит. Слышал вечером, как в лесу кто-то жалуется, кукует? Это она и есть. Это птица ночная» [12, с. 93]. Объяснение дает Тамила, соседка по дачному поселку, которую детское сознание превращает в заколдованную красавицу с волшебным именем. Этому способствует и игра самой Тамилы, чувствующей неподдельный интерес к ней мальчика. Ее слова и действия необычны: она пьет «лекарство от всех зол и страданий, земных и небесных», собирает для бус сто тысяч лимонных косточек, чтобы можно было полететь, «даже выше деревьев» [12, с. 91], носит на руке кольцо с серебряной жабой, которое снять не может, иначе конец придет («Рассыплюсь черным порошком» [12, с. 92]). Тамила подпитывает детский интерес, и сознание мальчика легко вписывает сказочные образы в обыденную жизнь, он не видит в этом никакого противоречия. Реальность птицы Сирин для Пети тем очевиднее, чем больше он переживает за своего больного дедушку: «Петин больной дедушка боится птицы Сирин — сядет к нему на грудь и задушит. У нее на каждой ноге по шесть пальцев, кожистые, холодные, мускулистые, а лицо как у спящей девочки. Куу-гу! Куу-гу! — кричит вечерами птица Сирин, копошится в еловой чаще», «Всю ночь она летает над домом, царапается в окна, а под утро, найдя щелочку, забирается, тяжелая, на подоконник, на кровать, ходит пешком по одеялу — ищет дедушку» [12, с. 97].
Образ птицы Сирин в рассказе Т. Толстой принадлежит зоне сознания мальчика. Тамила лишь играет в миф, а Петя в нем существует. Но мальчику придется столкнуться с крушением своего мира, когда он застанет дядю в доме у Тамилы, когда увидит ее охранное кольцо на полу и когда столкнется со смертью — «Птица Сирин задушила дедушку» [12, с. 106].
По законам мифологической картины мира образ ночной птицы соседствует с образом утренней птицы — Алконостом. О ней Пете также рассказывает Тамила: «А то есть еще птица Алконост. Та утром встает, на заре, вся розовая, прозрачная, насквозь светится, с искорками. Она гнездо вьет на водяных лилиях. Несет одно яйцо, очень редкое. Ты знаешь, зачем люди лилии рвут? Они яйцо ищут. Кто найдет, на всю жизнь затоскует. А все равно ищут, все равно хочется» [12, с. 93]. Тамила дарит «яйцо» Алконоста мальчику, которому совсем скоро предстоит узнать, что «пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской» [12, с. 106]. Горек плод познания, но он необходим.
Очевидно, что образ птицы Сирин в рассказе Т. Толстой — это символ познания небытия. Тема смерти является главной в книге «На золотом крыльце сидели…»: «все рассказы данного сборника включают в себя поэтизацию смерти, метафоризацию ухода в иной мир» [5]. Главный герой приобретает новый жизненный опыт, трагичный — опыт потери близкого человека. Кажется, что переход из детства во взрослый мир связан с разрушением единства сказочного и повседневного пространства. Однако не случайно в финале разграничены зоны сознания мальчика и автора — голос последнего резюмирует: «Птица Сирин задушила дедушку. Никто не уберегся от судьбы. Все — правда, мальчик. Все так и есть» [12, с. 106].
В мифологических системах птица чаще всего трактуется как символ свободы (идея отделения духовного начала от земного), души (в том числе когда она покидает тело) [10, с. 414]. Второй семантический элемент находит отражение в рассказе Е. Некрасовой «Сестромам».
Одна из главных героинь рассказа, чье имя мы узнаем только в последнем предложении, известная читателю как «Сестромам», после смерти превращается в птицу Гамаюн. Она прилетает к своей младшей сестре Анечке, которой при жизни заменила умершую мать и для которой стала воплощением «траты времени и всенапряжения»1, так как надо мотаться, выслушивать, говорить, оправдываться. Смерть старшей сестры снимает с Анечки груз ответственности за что бы то ни было, она «зажила теперь безмерно» [8]: может толкнуть беременную женщину и не извиниться, может увести мужа у подруги, может подсидеть «идиотку на работе». Важно, что, когда сестра была жива, Анечку что-то удерживало от плохих поступков, но в то же время давило на нее тяжким грузом. После смерти Сестро-мама, как замечает автор, героиня стала «из души шагнувшей» [8].
Образный ряд, связанный с концептом «птица», отражен в характеристиках обеих сестер. В самом начале рассказа мы видим Анечку: «всюду ладненькая, маечки под курточкой, кеды, бритые височки, острые крылышки-лопатки. Расправила, полетела» [8]. Позже добавится важная деталь: «Расправила черные, полетела» [8]. Соседка в знак благодарности за то, что Анечка помогла избавиться от пьяницы и деспота мужа, бившего дочку и не дававшего никому житья, приносит ей коробку «Птичьего молока». Бытовая деталь раскрывается в символическом плане: птичье молоко как угощение из нездешней, сказочной, райской жизни, и достается оно существу нездешнему — ночью «через лоджию в квартирай пришел Сестромам и сел на кухне есть торт» [8]. Сестромам появляется в виде птицы Гамаюн: «Сестромам нескладный, неладный, перья опавшие, крылья грустные, груди длинные квело болтались, куриные лапы царапали паркет» [8]. В рассказе, как и в других произведениях Е. Некрасовой, примечательна деталь «неудивле-ния» при встрече с мифическим существом. Здесь Анечка также «все сразу поняла», опустилась на стул и стала слушать свою сестру — Сестромама.
Гамаюн в восточнославянской мифологии так же, как Сирин и Алконост, — райская птица-дева. Она поет божественные песни и предвещает будущее тем, кто умеет слышать тайное. Внешне Гамаюн-Сестромам узнаваем, легко соотносится с мифологическими характеристиками. И функция всезнания тоже перенимается: Гамаюн рассказывает Анечке будущее всех ее «жертв», говорит о напрасности или жестокости содеянного. И только единожды она возвестит о добром, пусть и неосознанном, случайном, поступке: Анечка становится причиной того, что женщина-таджичка, перекупщица помидоров, с которой Анечку попросили разобраться, будет депортирована домой, зато благодаря этому вовремя поспеет к больной матери.
Однако образ Гамаюн-Сестромама не полностью совпадает с традиционными характеристиками: Сестромам не допущен в рай и не выглядит как райская птица («Его длинные сухие груди свиными ушками болтались»). Несчастный, потерянный, он у Е. Некрасовой воплощает материнское всезнание (и всезнание старшей сестры, которая берет на себя роль матери), которое так часто не принимается и вызывает в слушающем то чувство, что сама Анечка называет «долг делания вида».
Тем не менее связь старшей и младшей сестер, несмотря на недопонимание, отягощенность долгом выслушивания, заботы и переживания, — прочна. Гамаюн-Сестромам может попасть в рай только после того как Анечка совершит решаю- щий шаг — «в люди» (так называется последняя глава рассказа). После символической смерти (Анечку сбрасывают на ходу с электрички) она как будто заново обретает душу, точнее, душа возвращается в ее тело.
Гамаюн-Сестромам в рассказе Е. Некрасовой, как и другие фольклорные и мифологические образы в творчестве автора, передает личностные связи с миром через опыт соучастия и сочувствия. Е. М. Мелетинский отмечал, что миф «исключает неразрешимые проблемы и стремится объяснить трудноразрешимые через более разрешимое и понятное. Познание не является ни единственной, ни главной целью мифа. Главная цель — поддержание гармонии личного, общественного, природного, поддержка и контроль социального и космического порядка» [6, с. 5–6]. Отталкиваясь от классического представления о мифе, следует сказать, что Некрасова сознательно ориентируется на мифообразы для поддержания именно «личной» гармонии, для разрешения травматичного опыта, который всегда связан с индивидуальными переживаниями героя. В рассказе «Сестромам» таким опытом становится неосознанное чувство вины главной героини за свою неспособность быстро и правильно отозваться на происходящее, несостоятельность в тот момент, когда умирала сестра.
Отдельные мифические образы в рассказах Е. Некрасовой не создают целостной, константной мифологической картины мира потому, что ограничены сюжетными рамками: как только устанавливается равновесие, Сестромам исчезает. При этом автор не закрепляет миф посредством ритуала — этой «практически действенной стороной единого ритуально-мифологического комплекса» [6, с. 6].
У Толстой обыденная реальность превращается в волшебное, сказочное пространство в сознании ребенка. Мировосприятие же главной героини рассказа Некрасовой, Анечки, лишено какой бы то ни было способности преображать мир. Здесь мифопоэтические описания детерминированы проживанием героиней непроговоренного чувства вины.
Подводя итоги, можем резюмировать: в обоих рассказах трансформация образов мифических существ отражает частичное, локальное обращение к мифологической картине мира без апелляции к ее полноте и системности. Некрасова использует прием включения в реалистическое описание мифологического образа. Картина мира, представленная в рассказе «Сестромам», не делится на разные зоны сознания; повествовательная манера, несмотря на высокую оценочность, выраженную в лексике, призвана отображать условно-объективную реальность. В то время как в рассказе Толстой «Свидание с птицей», где повествование ведется также от третьего лица, очевидно доминирование субъективного, детского взгляда на окружающую действительность. Мифологическая картина мира у Толстой отражает этап взросления маленького героя, у Некрасовой — становится способом преодоления внутреннего кризиса. В таком субъективно-индивидуальном варианте мифические элементы выполняют функцию дополнения образов главных героев и актуализируют возможности разрешения «личного» конфликта.
Список литературы Образы мифических птиц в современной русской прозе (Т. Толстая «Свидание с птицей», Е. Некрасова «Сестромам»)
- Жучкова А. Мифопроза — что сейчас с ней происходит: фантастика, фэнтези, детектив и другое? Вебинар 29 октября. 2020. URL: https://voplit.ru/video/mifoproza-chto-sejchas-s-nej-proishodit-fantastika-fentezi-detektiv-i-drugoe/ (дата обращения: 20.03.2023). Текст: электронный.
- Имихелова С. С. Non-fiction или autofiction?: об одной тенденции в русском рас-сказе рубежа ХХ–ХХI вв. // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2020. № 1. С. 34–42. Текст: непосредственный.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: в 2 томах. Москва: Академия, 2006. Т. 2. 688 с. Текст: непосредственный.
- Мачавариани Н. В. Взаимодействие художественно-эстетических систем реализма и постмодернизма в раннем творчестве Т. Н. Толстой: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Пятигорск, 2017. 28 с. Текст: непосредственный.
- Мачавариани Н. В. Мифопоэтика ранних рассказов Т. Н. Толстой // Вопросы русской литературы. 2016. № 1–3(35–94). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mifopoetika-rannih-rasskazov-t-n-tolstoy (дата обращения: 20.03.2023). Текст: электронный.
- Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. Москва, 2001. 169 с. Текст: непосредственный.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 томах / главный редактор С. А. Токарев. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1997. Т. 2. 719 с. Текст: непосредственный.
- Некрасова Е. Сестромам // Знамя. 2015. № 1. URL: https://magazines.gorky.me-dia/znamia/2015/1/sestromam.html (дата обращения: 20.03.2023). Текст: электронный.
- Нефагина Г. Л. Русская проза конца ХХ века. Москва: Флинта: Наука, 2003. 320 с. Текст: непосредственный.
- Полная энциклопедия символов / составитель В. М. Рошаль. Москва: Изд-во АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 2006. 515 с. Текст: непосредственный.
- Скаковская Л. Н. Фольклорная парадигма русской прозы последней трети ХХ века: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Тамбов, 2004. 43 с. Текст: непосредственный.
- Толстая Т. Свидание с птицей // Толстая Т. Н. Ночь: рассказы. Москва: Подкова, 2001. С. 86–106. Текст: непосредственный.