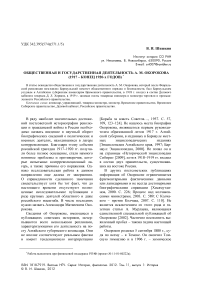Общественная и государственная деятельность А. М. Окорокова (1917 - конец 1920-х годов)
Автор: Шишкин Владимир Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье освещается общественная и государственная деятельность А. М. Окорокова, который после Февральской революции возглавлял Барнаульский комитет общественного порядка и безопасности, был Барнаульским уездным и Алтайским губернским комиссаром Временного правительства, в 1918 г. входил в состав Делового кабинета генерала Д. Л. Хорвата, в 1919 г. занимал посты товарища министра и министра торговли и промышленности Российского правительства.
Комиссар, управляющий, товарищ министра, министр, временное правительство, временное сибирское правительство, деловой кабинет, российское правительство
Короткий адрес: https://sciup.org/14737646
IDR: 14737646 | УДК: 342.395(574)(571.1/5)
Текст научной статьи Общественная и государственная деятельность А. М. Окорокова (1917 - конец 1920-х годов)
В ряду наиболее значительных достижений постсоветской историографии революции и гражданской войны в России необходимо назвать введение в научный оборот биографических сведений о политических и военных деятелях, находившихся в лагере контрреволюции. Благодаря этому события российской трагедии 1917–1920 гг. получили более полное освещение, стали намного понятнее проблемы и противоречия, которые испытывал контрреволюционный лагерь, а также причины его поражения. Однако исследовательская работа в данном направлении еще далека от завершения. О справедливости сделанного замечания свидетельствует хотя бы тот факт, что до настоящего времени отсутствуют полноценные исследовательские публикации о ряде крупных деятелей областного и даже российского масштаба. В числе последних нужно назвать Александра Матвеевича Око-рокова.
Сведения об Окорокове, имеющиеся в публикациях советских историков, исчерпываются всего несколькими репликами, характеризующими его деятельность на посту Алтайского губернского комиссара. Они не вполне соответствуют реальным фактам и имеют тенденциозную интерпретацию
[Борьба за власть Советов…, 1957. С. 57, 109, 123–124]. Не нашлось места биографии Окорокова, являвшегося первым руководителем образованной летом 1917 г. Алтайской губернии, в изданных в Барнауле местных энциклопедических изданиях [Энциклопедия Алтайского края, 1997; Барнаул: Энциклопедия, 2000]. Не попал он и на страницы «Исторической энциклопедии Сибири» [2009], хотя в 1918–1919 гг. входил в состав двух правительств, существовавших на востоке России.
В других постсоветских публикациях информация об Окорокове ограничивается фрагментарными фактическими данными или лапидарными и не всегда достоверными биографическими справками [Хисамутди-нов, 2000. С. 226; Процесс над колчаковскими министрами, 2003. С. 589; С Колчаком – против Колчака, 2007. С. 110]. Не является исключением из этого ряда и газетная статья А. Мурлаева, являющаяся единственной специальной публикацией об Окорокове [2002]. Частично восполнить выявленный пробел – такова задача настоящей работы.
Окороков родился 5 сентября 1880 г., судя по всему – в Томске. Он окончил Томскую гимназию и в 1906 г. – химическое
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 1: История © В. И. Шишкин, 2012
отделение Томского технологического института, получив звание «инженер-технолог». В течение нескольких последующих лет Александр Матвеевич служил на руководящих должностях в частных торговых организациях. С 1912 г. вместе с рядом единомышленников Окороков учредил в Томской губернии несколько промышленных предприятий по производству дрожжей, сахара, спирта, извести и цемента. Одновременно он принимал активное участие в создании ряда кооперативных организаций: Барнаульского общества взаимного кредита, Алтайского союза кооперативов и Алтайского горного союза. Окороков был избран председателем Совета Алтайского союза кооперативов и до 1918 г. являлся его фактическим руководителем [Сыщенко, 1998. С. 39] 1.
К 1917 г. в местной кооперативной среде Окороков стал заметной фигурой. Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что в начале января 1918 г. вторым Всесибирским кооперативным съездом он был делегирован в Сибирскую областную думу от Союза сибирских кооперативных союзов «Закуп-сбыт». В первой половине марта 1918 г. Александр Матвеевич как представитель Алтайского союза кооперативов участвовал в работе VII общего собрания уполномоченных «Закупсбыта», на котором выступал с докладом об его «промышленной» деятельности 2 и был избран в состав ревизионной комиссии «Закупсбыта», набрав по итогам голосования наибольшее количество голосов [Иванов, 1976. С. 187] 3.
Но особенно хорошо Александр Матвеевич был известен в Барнауле и Новониколаевске, где проходила его основная работа. В Барнауле он являлся владельцем дрожжевинокуренного завода, в обоих городах имел недвижимость. Не случайно, когда в начале марта 1917 г. в Барнауле стало известно об отречении от престола Николая II и на состоявшемся в Народном доме митин- ге горожан был организован комитет общественного порядка и безопасности, то его председателем избрали Окорокова. В дальнейшем при назначении комиссара Временного правительства по Барнаульскому уезду министерство внутренних дел автоматически остановило свой выбор на Окорокове, поскольку он занимал пост председателя Барнаульского комитета общественного порядка и безопасности 4.
Работа на обеих должностях была исключительно сложным и трудным делом не только из-за ее новизны и кризисной ситуации, в которой находилась вся Россия, но и по причине того, что в Сибири отсутствовали органы земского самоуправления, которые давно имелись в европейской части страны и после упразднения царской администрации в губерниях и уездах взяли на себя решение многих острых вопросов местной жизни: продовольствия, социального обеспечения, здравоохранения, народного образования, страхования и пр. В Барнауле всем этим в спешном порядке пришлось заниматься сначала местному комитету общественного порядка и безопасности, а затем – уездному комиссару и созданной при нем администрации.
Весной 1917 г. по инициативе томской общественности в уездах губернии началась организация народных собраний, которые должны были играть роль отсутствовавших здесь земских учреждений, а избранные собраниями исполнительные комитеты – уездных управ. Главой Барнаульского уездного народного собрания – председателем его исполнительного комитета – опять-таки был избран Окороков. Тем самым на уровне Барнаульского уезда он сосредоточил в своих руках руководство органами как государственной власти, так и общественного самоуправления. Не исключено, что этот успех Окорокова объяснялся не только его образованностью, деловой хваткой, известностью, но и политическими взглядами. Александр Матвеевич являлся членом трудовой народно-социалистической партии, которая в то время находилась на «правом фланге» социалистической шеренги, благодаря чему воспринималась как умеренная политическая сила, способная играть в обществе консолидирующую роль.
Семнадцатого июня 1917 г. Временное правительство приняло два важных решения: оно утвердило Временное положение, в соответствии с которым в Сибири вводились земские учреждения, и постановило разделить Томскую губернию на собственно Томскую и Алтайскую губернии. По всей Сибири предстояло проделать большую работу по подготовке и проведению выборов в земские органы самоуправления, а на Алтае к тому же – создать губернские органы государственной власти.
Чтобы исключить назначение на должность губернского комиссара нежелательного им человека, барнаульские общественные деятели решили предложить министерству внутренних дел на открывшуюся вакансию своего кандидата. С этой целью 22–23 июля 1917 г. в Барнауле они провели совещание представителей городских и уездных исполнительных комитетов, на которое с совещательным голосом были приглашены представители местных Советов и губернского комитета РСДРП. На нем член Бийской уездной земской управы меньшевик М. К. Зятьков, делегированный Бийским уездным исполнительным комитетом, в качестве кандидата на должность губернского комиссара предложил Окорокова. Эта кандидатура была единодушно поддержана представителями других исполнительных комитетов. Окороков дал согласие баллотироваться на должность губернского комиссара, заявив при этом о своей принципиальной позиции. «Работа комиссара, как я ее представляю, – сказал он, – должна быть неразрывно связана с местными демократическими организациями и должна опираться на Совет рабочих и солдатских депутатов и органы местного самоуправления. Нужно сплотиться воедино для спасения завоеваний революции. Я буду опираться только на демократические органы, и буду вынужден уйти, если хотя бы один из них выразил мне недоверие» 5. Все 17 участников совещания проголосовали за кандидатуру Окорокова, которая была предложена министерству внутренних дел и вскоре получила утверждение.
На посту губернского комиссара Александр Матвеевич проявил себя как грамотный и принципиальный администратор. Он оперативно и адекватно реагировал на возникавшие проблемы, принимал решения без оглядки на столицу, но обязательно с учетом мнения местной общественности. Весьма показательно в этом отношении проведенное 20 сентября 1917 г. под председательством его помощника Я. В. Плотникова, но с активным участием самого Окорокова, совещание по вопросу о самосудах и об агитации, которая велась в Алтайской губернии против земельных и продовольственных комитетов.
На совещание были приглашены представители всех авторитетных общественных организаций и политических партий. На нем Окороков не побоялся заявить о том, что «корень» широкого распространения самосудов он видит в ошибке центральной власти, когда по телеграмме министра юстиции А. Ф. Керенского получили амнистию многие уголовные преступники. Но одновременно Александр Матвеевич подверг критике позицию местных Советов, которые воспротивились исправлению допущенной ошибки. Принятая совещанием резолюция содержала набор мер, вытекавших из сделанного Окороковым анализа ситуации 6.
С осени 1917 г. главной опасностью для политической стабильности в Алтайской губернии стал разгул анархии, порожденный ухудшением экономического, прежде всего – продовольственного, положения части населения и деятельностью левых радикалов. В целях недопущения дезорганизации власти и стабилизации положения Окороков принимал разнообразные меры, направленные на борьбу со спекулянтами, на укрепление милиции и мобилизацию общественности, причем не боялся идти на непопулярные меры, вплоть до применения арестов против агитаторов и запрещения разного рода сборищ.
Такую позицию губернского комиссара поддержали земские и городские самоуправления, большинство демократических общественных организаций и политических партий. Например, состоявшийся 22–23 сентября съезд представителей земств и городов Алтайской губернии принял резолюцию, в которой потребовал от властей «использовать для подавления возникаю- щих погромных выступлений все имеющиеся в их распоряжении средства» 7.
В связи с тревожной информацией о событиях в Петрограде, приведших к свержению Временного правительства, 27 октября в Барнауле было созвано экстренное совещание, в котором приняли участие представители 13 общественных организаций: губернского исполнительного комитета, губернского и уездного земств, городского самоуправления, исполнительного комитета Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов, демократических организаций и социалистических партий. Оно заслушало объяснения губернского комиссара Окоро-кова и признало его действия «вполне правильными». Тем не менее для поддержания порядка в губернии, в целях своевременного и правильного производства выборов во Всероссийское Учредительное собрание совещание посчитало необходимым, как и во время корниловского выступления, организовать губернский комитет спасения революции, которому решило передать всю полноту власти в Алтайской губернии 8.
В действительности возглавляемый Окороковым губернский комиссариат не прекратил свою деятельность, а губернский комитет спасения революции только оказывал ему посильную помощь. Но ситуация в Барнауле продолжала стремительно ухудшаться. С одной стороны, демократическая общественность Алтайской губернии не признавала созданное большевиками и «левыми» эсерами правительство – Совет народных комиссаров, – считая, что вопрос о центральной власти является прерогативой Всероссийского Учредительного собрания. С другой – местные большевики, вдохновляемые успехом своих петроградских товарищей, вели себя все более агрессивно. Сначала Барнаульский Совдеп попытался реорганизовать комитет спасения революции, исключив из него представителей земского и городского самоуправления, а также партии народных социалистов. Эта попытка не увенчалась успехом, поскольку общее собрание комитета ответило решительным отказом пойти на поводу у большевиков 9.
Тогда 6 декабря 1917 г. большевики сделали решающий шаг. Руководимый ими исполком Барнаульского Совдепа опубликовал приказ, в котором он отозвал своего представителя из губернского комитета спасения революции, сам комитет объявил распущенным, временной властью провозгласил военно-революционный комитет при Барнаульском Совдепе и ввел в городе военное положение [Борьба за власть Советов…, 1957. С. 123]. На следующий день по распоряжению военно-революционного комитета деятельность губернского комиссариата была насильственно прекращена вооруженной силой. Правда, 12 декабря Окорокову каким-то образом удалось издать обращение к гражданам Алтайской губернии, в котором он информировал население об отстранении его от власти и в связи с этим заявил о том, что снимает с себя ответственность за невыдачу пайка семьям призванных в армию [Мурлаев, 2002].
Александр Матвеевич посчитал также нужным отчитаться о своей деятельности на посту комиссара перед проходившим 22–23 декабря 1917 г. совещанием Советов крестьянских депутатов Алтайской губернии, стоявшим на антибольшевистских позициях 10.
Деятельность Окорокова и его помощника Плотникова по руководству Алтайским губернским комиссариатом получила высокую оценку со стороны органов земского и городского самоуправления. Семнадцатого декабря 1917 г. совещание представителей земств и городов Алтайской губернии специально обсудило вопрос об отношении к губернскому комиссариату в лице Окороко-ва и Плотникова и вынесло такое постановление: «Полагая, что комиссариат Алтайской губернии, избранный представителями земств и городов, в своих действиях опирался на доверие населения губернии, руководствуясь лишь интересами последнего, и в деятельности своей решительно никаких поводов к обвинениям в каких-либо зло- употреблениях этим доверием не дал, совещание протестует против насильственного захвата управления комиссариатом группой, именующей себя военно-революционным комитетом, и выражает А. М. Окорокову и В. Я. Плотникову свое сочувствие» 11.
Принципиально иначе повели себя большевики, крайне недовольные тем, что Окороков не признал Советскую власть. По обвинению в финансовых злоупотреблениях он был арестован и на две недели заключен в барнаульскую тюрьму. После освобождения из заключения Александр Матвеевич, опасаясь дальнейших преследований со стороны барнаульских большевиков, переехал в Новониколаевск 12.
В конце мая 1918 г. в Сибири началось антибольшевистское выступление Чехосло- вацкого корпуса, поддержанное местными вооруженными формированиями Временного Сибирского правительства. Четырнадцатого июня 1918 г. они освободили от большевиков Барнаул. Через три дня в управление Алтайской губернией вступил комиссариат, назначенный уполномоченными Временного Сибирского правительст-13
ва
.
Демократическая общественность Барнаула была явно недовольна тем, что губернский комиссариат назначили сверху, без учета ее мнения. Судя по всему, большинство членов самого комиссариата разделяло такую постановку вопроса. Во всяком случае 3 июля 1918 г. от имени губернского комиссариата во все земские и городские самоуправления Алтайской губернии была направлена телеграмма о необходимости прислать своих представителей на специальное совещание по выдвижению кандидатов на пост губернского комиссара и его помощника 14.
Шестого июля 1918 г. в Барнауле открылось чрезвычайное губернское земское собрание. В ряду других оно рассмотрело и вопрос о кандидатах на должность губернского комиссара и его помощника. Участники собрания были ознакомлены с постановлением совещания представителей земств и городов Алтайской губернии от 17 декабря
1917 г., которое было процитировано выше. Опираясь на его оценку, представитель Славгородского уезда депутат Всероссийского Учредительного собрания правый эсер А. А. Девизоров внес предложение «призвать к исполнению обязанностей губернского комиссара Окорокова и его помощника Плотникова, так как обязанностей этих с них никто не снимал, а они были устранены Советской властью». Большинство участников собрания поддержало это предложение 15. Такое коллективное мнение являлось еще одним свидетельством того, что Окороков в качестве комиссара Алтайской губернии был на своем месте. Однако никто из участников совещания не знал, где в это время находился Александр Матвеевич. В результате на должность губернского комиссара совещание рекомендовало члена Сибирской областной думы местного эсера В. З. Малахова, который и был утвержден Советом министров Временного Сибирского правительства 16.
Окороков же после завершения работы VII общего собрания уполномоченных «За-купсбыта» из Новониколаевска отправился в Читу, поскольку именно этот город противники большевиков из числа сибирских областников первоначально избрали в качестве своего опорного пункта. Предполагалось, что здесь обоснуются Сибирская областная дума и избранное на ее первой сессии в Томске Временное Сибирское правительство во главе с правым эсером П. Я. Дербером. В апреле 1918 г. делегированный «За-купсбытом» в состав Сибирской областной думы Окороков прибыл в Читу 17.
Но еще в середине февраля 1918 г. политическая обстановка в Чите резко изменилась. Здесь также утвердилась Советская власть. В этой ситуации П.Я. Дербер с частью членов Временного Сибирского правительства и депутатов Сибирской областной думы, являвшихся эсерами по партийной принадлежности, приняли решение перебраться в Харбин. Они планировали в конце апреля – мае 1918 г. созвать в Харбине вторую сессию Сибирской областной ду- мы. Узнав об этом, Окороков из Читы также выехал в Харбин.
После Октябрьского переворота Харбин стал прибежищем для многих бывших русских политиков, оказавшихся не у дел. Здесь шла нешуточная борьба между разными партийно-политическими структурами за лидерство и за влияние на дипломатических представителей союзников в целях получения их признания. В этой борьбе Окороков занял, на первый взгляд, довольно неожиданную позицию, как бы противоречившую его предшествующей политической деятельности. Он не поддержал дерберовскую группу Временного Сибирского правительства, а солидаризировался с генерал-лейтенантом Д. Л. Хорватом.
На русском Дальнем Востоке Д. Л. Хорват был если не культовой, то во всяком случае самой известной фигурой. С 1903 г. и до конца апреля 1918 г. он состоял управляющим Китайско-Восточной железной дороги, в 1917 г. получил назначение комиссаром Временного правительства на КВЖД, после прихода большевиков к власти возглавил Дальневосточный комитет защиты родины и Учредительного собрания, в конце апреля 1918 г. стал директором-распорядителем Правления общества КВЖД, в начале июля 1918 г. создал собственное правительство – Деловой кабинет. Возглавил Деловой кабинет бывший депутат Государственной думы III и IV созывов от Енисейской губернии кадет С. В. Востротин, служивший товарищем министра земледелия в первом коалиционном кабинете Всероссийского Временного правительства, а его членами стали бывший депутат Государственной думы от Забайкальской области кадет С. А. Таскин, крупный промышленник и финансист А. И. Путилов, бывший товарищ министра путей сообщения инженер Л. А. Устругов, представители южно-российской контрреволюции генерал от инфантерии В. Е. Флуг и полковник В. А. Глухарев, барнаульский журналист и старый областник М. О. Курский. Окороков вошел в состав Делового кабинета, заняв в нем пост управляющего ведомством продовольствия 18.
В том, что те или иные люди меняют свои политические взгляды и позиции, нет ничего странного. Важно понять, почему это происходит. Что касается переориентации Окорокова, делегированного от демократической организации «Закупсбыт» в Сибирскую областную думу и, казалось бы, автоматически обязанного поддерживать рожденное ею Временное Сибирское правительство, на занимавшего «правые» позиции Д. Л. Хорвата, то скорее всего это произошло по двум причинам.
Во-первых, прибывшая в Харбин во главе с П. Я. Дербером группа министров Временного Сибирского правительства подвергалась справедливой критике со стороны части социалистической и более «правой» общественности за свой почти исключительно эсеровский состав и слабую легитимность, обусловленную недопущением к выборам в Сибирскую областную думу цензовых элементов.
Во-вторых, в Харбине Окороков тесно общался со своим земляком и товарищем по трудовой народно-социалистической партии М. О. Курским, избранным в Сибирскую областную думу от кредитной кооперации. В конце января 1918 г. М. О. Курский находился в Томске, намереваясь принять участие в первой сессии Сибирской областной думы, на которой предполагалось избрать Временное Сибирское правительство. Но, как и ряд его товарищей по фракции областников, проведших целую ночь в ожидании приглашения на заседание думы, М. О. Курский такого приглашения не получил.
Недопущение к участию в работе первой сессии думы неугодных ему депутатов позволило П. Я. Дерберу обеспечить принятие необходимых решений, в том числе избрание в правительство нужных деятелей. Однако благодаря рассказам М. О. Курского примененные П. Я. Дербером избирательные технологии стали известны харбинской общественности 19. Такое поведение П. Я. Дербера дискредитировало его как главу Временного Сибирского правительства, снизило и без того невысокое доверие к возглавляемому им правительству. Окороков был в числе тех деятелей, которые резко отрицательно отреагировали на политические манипуляции эсеров. Причем свои расхождения с группой П. Я. Дербера Окороков квалифицировал как «принципиальные» 20.
Сформированный Д. Л. Хорватом Деловой кабинет с начала июля 1918 г. обосновался на железнодорожной станции Гроде-ково. Месяц спустя он перебрался во Владивосток и расположился в нескольких вагонах неподалеку от местного железнодорожного вокзала 21. Его положение было аналогичным тому, в котором в марте – июне 1918 г. находилась в Харбине возглавляемая П. Я. Дербером фракция Временного Сибирского правительства. Деловой кабинет не имел ни подконтрольной территории, ни собственных финансовых средств, ни вооруженной силы, ни аппарата управления. Даже находившийся в то время в Японии адмирал А. В. Колчак назвал Деловой кабинет Д. Л. Хорвата «пародией на правительство» 22. Но именно Деловой кабинет стал главным оппонентом и конкурентом дербе-ровской группы Временного Сибирского правительства, которая еще раньше перебралась из Харбина во Владивосток и с 1 июля 1918 г. стала именовать себя Временным правительством автономной Сибири.
В борьбе, которая развернулась между правительствами П. Я. Дербера и Д. Л. Хорвата, Окороков принял самое непосредственное участие. Сразу же после того, как была установлена телеграфная связь между Владивостоком и Сибирью, А. М. Окороков совместно с М. О. Курским направили правлению «Закупсбыта» в Новониколаевск телеграмму, в которой говорилось: «Ознакомившись с действиями правительства Дербера, пришли к выводу, что личный состав его и деятельность являются отрицательными, распоряжение денежными средствами – произвольным, преследующим личные интересы, отношение цензовых элементов Владивостока и других городов
Дальнего Востока – явно отрицательным, исключающим, безусловно, возможность коалиции. По указанным причинам не нашли возможным поддержать его как явно одностороннее и партийное, которое сочувствия и признания союзников не встретит».
Окороков и Курский заявили, что они, ставя «интересы родины выше партийных стремлений», отказались поддержать правительство Дербера и «решили войти в состав правительства Хорвата, составленного из политических и общественных деятелей чисто делового характера с участием социалистов, стоящих на государственной точке зрения» 23.
Данная информация, имевшая четко обозначенного адресата, тем не менее каким-то образом попала на страницы ряда сибирских газет и была умело использована противниками Дербера для дальнейшей дискредитации возглавляемого им правительства.
Руководство «Закупсбыта» было шокировано поведением Курского и Окорокова. Проходившее в это время общее собрание уполномоченных «Закупсбыта» обсудило вопрос об их вступлении в Деловой кабинет Хорвата и приняло по этому поводу специальную резолюцию. Оно констатировало, что для вступления в Деловой кабинет Курский и Окороков не имели соответствующих полномочий от «Закупсбыта», а их действия квалифицировало как личные безответственные поступки. Руководство «За-купсбыта» сочло необходимым «категорически отмежеваться от действий указанных лиц» и заявило, что считает правительство, избранное Сибирской областной думой, единственно законной властью. Общее собрание уполномоченных «Закупсбыта» приняло решение «потребовать объяснений от А. М. Окорокова по поводу его действий на Дальнем Востоке по отношению к Временному Сибирскому правительству» 24.
Сведений о том, получил ли Окороков резолюцию руководства «Закупсбыта», осуждавшую его поведение, не обнаружено. Но совершенно очевидно, что сделанный политический выбор в пользу Д. Л. Хорвата Александр Матвеевич не пересмотрел.
В конце сентября 1918 г., когда во Владивосток прибыла из Омска делегация Совета министров Временного Сибирского правительства во главе с его председателем П. В. Вологодским, он вел себя как надежный член команды Хорвата. Более того, в ходе переговоров между делегацией омского Совета министров и Деловым кабинетом Окороков участвовал во встрече с самим Вологодским 25.
Об итогах переговоров, длившихся несколько дней, в дальневосточной прессе публиковались различные сведения. Противоречивая информация приводилась и о том, какая судьба уготована Д. Л. Хорвату и его Деловому кабинету. Первоначально со ссылкой на «весьма осведомленный источник» сообщалось, что достигнута договоренность о том, что Д. Л. Хорват войдет в состав Совета министров, а С. В. Востротин, Л. А. Устругов и Окороков станут членами его Делового кабинета 26.
Затем появились сведения о том, что 25 сентября 1918 г. было достигнуто соглашение между делегацией П. В. Вологодского и Деловым кабинетом Д. Л. Хорвата, в соответствии с которым все члены последнего вольются в состав Совета министров Временного Сибирского правительства 27.
«Правая» печать Дальнего Востока и Сибири с нескрываемым удовольствием публиковала информацию об этих переговорах, в действительности не имевших никакой юридической силы. Но, похоже, Д. Л. Хорват и его окружение жили политическими иллюзиями. Во всяком случае через несколько дней после отъезда делегации П. В. Вологодского из Владивостока в Омск туда же отправились С. В. Востротин и А. М. Окороков. После того как они проехали через Иркутск, местная кадетская газета «Свободный край» не только сообщила об этом событии, но и сочла необходимым известить своих читателей о цели их поездки в Омск, которую она квалифицировала как «закрепление и детальное обсуждение опубликованных уже в нашей газете усло- вий соглашения между обоими правительствами» 28.
Реальная жизнь, как это чаще всего бывает в России, пошла совсем другим путем. В конце сентября 1918 г. на проходившем в Уфе Государственном совещании было достигнуто соглашение о создании Временного Всероссийского правительства и об упразднении всех областных правительств. Тем самым была решена участь не только Делового кабинета Д. Л. Хорвата, но и претендовавшего на первые роли Временного Сибирского правительства.
В ходе формирования в конце октября 1918 г. Совета министров Временного Всероссийского правительства занимавшийся этим вопросом П. В. Вологодский предлагал С. В. Востротину пост министра или товарища министра торговли и промышленности. Но С. В. Востротин это предложение не принял. При рассмотрении кандидатов на пост товарища министра продовольствия называлась и фамилия Окорокова 29. Однако этой должности Александр Матвеевич не получил. Нельзя исключать того, что его кандидатура не прошла потому, что ее заблокировали кооператоры, имевшие влияние в омских коридорах власти. Не нашлось ему места в правительственных структурах и на менее ответственных должностях. Судя по всему, он смог утроиться только членом Омского биржевого комитета, где прослужил несколько месяцев [Рынков, 1999. С. 59].
Новый этап в биографии Окорокова начался в мае 1919 г. Шестого мая в результате частичной реорганизации Совета министров Российского правительства А. В. Колчака временно управляющим министерством торговли и промышленности вместо тяжело заболевшего Н. Н. Щукина был назначен министр финансов И. А. Михайлов. Буквально через два дня после этого подал прошение об увольнении от занимаемой должности товарищ министра торговли и промышленности Ф. А. Томашевский, а на его место И. А. Михайлов представил кандидатуру А. М. Окорокова, которая была принята Советом министров и предложена Верховному правителю адмиралу А. В. Кол- чаку на утверждение 30. В тот же день А. В. Колчак подписал указы об увольнении Ф. А. Томашевского и о назначении А. М. Окорокова 31. На следующий день по министерству торговли и промышленности был отдан приказ, в соответствии с которым на Окорокова возлагалось заведование всеми отделами, делами горного департамента, Комитета Северного морского пути и канцелярии министра 32.
Судя по распределению обязанностей в министерстве торговли и промышленности, Окорокову предстояло стать той самой «лошадкой», которая должна была везти в министерстве основной «воз». Дело в том, что И. А. Михайлов был занят главным образом по основному месту работы в министерстве финансов, П. П. Щукин получил отпуск по болезни (27 мая он вообще уволился), а третий товарищ министра, С. А. Введенский, занимался только делами Особого совещания по топливу. Причем Окороков сразу же был лишен какой-либо карьерной перспективы, поскольку еще 6 мая Совет министров предложил пост министра торговли и промышленности на выбор двум другим кандидатам: российскому послу в Вашингтоне Б. А. Бахметьеву и крупному предпринимателю и общественному деятелю С. Н. Третьякову. Последний через три недели ответил согласием занять министерский пост 33.
Пятнадцатого мая 1919 г. А. М. Окороков первый раз присутствовал на заседании Совета министров34. С этого времени он регулярно участвовал в заседаниях Совета министров в качестве товарища министра или как замещающий министра. Но при этом в заседаниях большого Совета министров, на которых принимались наиболее важные решения, он не имел права решающего голоса. И. А. Михайлов решил исправить этот недочет и 10 июня возбудил перед Советом министров вопрос о предоставлении Окоро-кову в заседаниях большого Совета министров права решающего голоса в качестве представителя министерства торговли и промышленности. Совет министров, однако, отказал И. А. Михайлову в этом ходатайстве, поскольку согласно законодательным нормам с правом решающего голоса в заседаниях большого Совета министров могли участвовать лишь только управляющие ведомствами 35.
Судя по журналам заседаний Совета министров, Окороков не отличался большой инициативой. Видимо, сказывалось то, что в правительстве Александр Матвеевич был новичком, и к тому же был вынужден находиться в тени своего влиятельного патрона И. А. Михайлова. Однако все возникавшие по ведомству вопросы он решал своевременно и грамотно, что неоднократно находило положительную оценку всего Совета министров и глав отдельных ведомств 36.
Совершенно закономерно, что когда 16 августа И. А. Михайлов был отправлен в отставку с обоих министерских постов, то временное управление министерством торговли и промышленности было возложено на Александра Матвеевича 37.
В новом качестве Окороков вел себя более активно. Именно по его докладу Совет министров назначил сенаторскую ревизию Омского военно-промышленного комитета. Ему же принадлежала инициатива реквизиции и использования некоторых невостребованных товаров во владивостокских таможенных, банковских, частных складах и транспортных конторах, учреждения Особого совещания по торговому флоту и изменения правил порядка комплектования команд судов российского торгового флота, плавающих во внешних водах. В то же время он высказал свое особое мнение по вопросу о предоставлении министру снабжения и продовольствия прав в области заготовки всех видов интендантского довольствия для армии, которое изложил в пространной записке 38.
В середине сентября 1919 г. Окороков принял решение посетить Алтайскую губернию. Едва ли это решение было продиктовано интересами министерства. Скорее всего, Александр Матвеевич поехал на Алтай по семейным соображениям, поскольку в Барнауле находилась его семья: супруга Мария Алексеевна с восьмилетней дочерью Надеждой и шестилетним сыном Александром. Но буквально накануне отъезда, 17 сентября, к нему обратился с просьбой министр внутренних дел В.Н. Пепеляев, который поинтересовался, не сочтет ли Окороков возможным ознакомиться с деятельностью чинов подведомственной ему местной администрации «в связи с происходившими в губернии беспорядками и ходом их подавления» 39. Судя по тому, как складывались отношения между В. Н. Пепеляевым и А. М. Окороковым в дальнейшем, последний положительно откликнулся на просьбу главы МВД.
Второго октября 1919 г. в Омск прибыл С. Н. Третьяков. На следующий день указом Верховного правителя он был назначен министром торговли и промышленности. Шестого октября Окороков последний раз участвовал в заседании большого Совета министров и расписался в его журнале в качестве временно управляющего министерством 40. Но весь октябрь 1919 г. он продолжал работать в составе малого Совета министров.
Как известно, из-за поражения колчаковских войск на фронте Совет министров Российского правительства вскоре был вынужден переменить свою резиденцию и переехать из Омска в Иркутск. Одиннадцатого ноября состоялось последнее заседание Совета министров в Омске. Неделю спустя Совет министров приступил к работе на новом месте, в Иркутске.
В конце ноября А. В. Колчак признал необходимым осуществить реорганизацию Совета министров. Вместо ушедшего в отставку П. В. Вологодского председателем Совета министров он назначил министра внутренних дел В. Н. Пепеляева. По предложению последнего, указом Верховного правителя от 29 ноября 1919 г. министр торговли и промышленности С. Н. Третьяков был назначен заместителем председателя Совета министров с возложением на него управления министерством иностранных дел, а товарищ министра торговли и про- мышленности Окороков – министром торговли и промышленности 41.
В качестве министра торговли и промышленности Окороков принял участие в одиннадцати заседаниях Совета министров. Как глава ведомства и председатель Особого совещания по топливу он несколько раз входил в Кабинет с ходатайством о финансировании Забайкальских и Черемховских каменноугольных копей, чтобы тем самым поддержать функционирование железнодорожного транспорта. По итогам этих обращений только 3 декабря 1919 г. Совет министров выделил в распоряжение министра огромную сумму в 61 млн руб. на приобретение продовольствия и одежды для рабочих названных копей 42.
Окороков возглавлял также комиссию по разработке вопроса об упразднении министерства снабжения и продовольствия. Тринадцатого декабря по его представлению Совет министров постановил признать необходимым ликвидировать это министерство, передав работу по снабжению армии главному интендантскому управлению, а обеспечение продовольствием армии и населения – временно министерству торговли и промышленности. Совет министров поручил Окорокову дальнейшую детальную разработку вопроса об упразднении министерства снабжения и продовольствия, о чем Александр Матвеевич должен был сделать Кабинету специальный доклад 43.
Шестнадцатого декабря при обсуждении просьбы бывшего временного управляющего министерством иностранных дел И. И. Сукина о разрешении выезда за границу Окороков резко выступил против выдачи ему контр-валюты. Выступление Окороко-ва, видимо, явилось главной причиной того, что Совет министров отклонил ходатайство И. И. Сукина, порекомендовав ему дождаться возвращения в Иркутск главы Кабинета В. Н. Пепеляева 44.
В принципе к тому времени в Иркутске всем уже было ясно, что дни Российского правительства сочтены. Сохранявшие остатки оптимизма члены Совета министров склонялись к необходимости очередной реорганизации правительства и ограничения масштабов его деятельности только Сибирью. Пессимисты вели себя иначе: они под разными предлогами уходили с недавно престижных правительственных должностей. Но самыми прозорливыми оказались реалисты и циники, которые всеми возможными путями спешили покинуть Иркутск.
Что касается Окорокова, то последний раз в качестве главы ведомства торговли и промышленности он расписался в журнале заседаний Совета министров, которое состоялось 10 декабря 1919 г. Пять дней спустя, 16 декабря, Александр Матвеевич в последний раз лично участвовал в работе Совета министров 45. После этого Окороков перестал посещать заседания Кабинета, причем никто из его коллег не знал о том, почему он игнорирует заседания. Двадцать второго декабря Совет министров поручил временно исполняющему обязанности председателя Кабинета А. А. Червен-Водали вызвать к себе министра торговли и промышленности и выяснить причины непосещения им заседаний Совета министров 46. Но похоже, что к тому времени Окорокова уже не было в Иркутске. Судя по всему, не поставив никого в известность, он вслед за С. Н. Третьяковым выехал в Читу, покинув тонущий корабль колчаковской государственности. Сохранение собственной жизни и забота о перебравшейся в Читу семье оказались для Александра Матвеевича важнее, чем исполнение обязанностей министра правительства, которое терпело поражение.
С осени 1918 г. Забайкалье и его столица Чита были вотчиной Г. М. Семенова. Здесь существовал политический режим, отличавшийся не только особой жестокостью, но и беззаконием. К концу 1919 г. Г. М. Семенов, получивший к тому времени звание генерал-лейтенанта, еще более упрочил свое положение и влияние: он стал главнокомандующим вооруженными силами Дальневосточного и Иркутского военных округов, а также атаманом Забайкальского казачьего войска. Более того, 4 января 1920 г. Верховный правитель А. В. Колчак распорядился передать Г. М. Семенову всю полноту воен- ной и гражданской власти на всей территории российской восточной окраины [Василевский, 2000. С. 22–23, 126–127].
Для воплощения этих полномочий в жизнь во второй половине января 1920 г. Г. М. Семенов учредил посты своих помощников по военной и гражданской части, на которые назначил генерал-майора М. И. Афанасьева и С. А. Таскина. По рекомендации последних в Чите в качестве центральных органов власти было решено сформировать краевые управления, которым предстояло взять на себя функции министерств бывшего Российского правительства. С. А. Таскин, знавший Окорокова по работе в Деловом кабинете Д. Л. Хорвата, привлек Александра Матвеевича к работе. Ему было поручено руководить краевым управлением, которое объединяло четыре ведомства: промышленности, торговли, продовольствия и труда [Рынков, 2011. С. 155].
Но и на этой должности Окороков не задержался. Уже в середине марта 1920 г. Александр Матвеевич покинул Читу и направился в Дайрен. Существует документально не подтвержденная версия о том, что он был командирован Г. М. Семеновым в Японию. Едва ли это так. Во-первых, для контактов с Японией Г. М. Семенов не нуждался в содействии Окорокова. Во-вторых, 23 марта Александр Матвеевич оказался в Харбине, где довольно долго общался с П. В. Вологодским, о чем свидетельствует дневниковая запись последнего. Однако в ней отсутствует столь важная информация, какой являлась командировка Окорокова в Японию, умолчать о которой не могли ни рассказчик, ни слушатель. В то же время П. В. Вологодский записал в дневнике, что Окороков, оставивший Читу неделю тому назад, сообщил, что «положение там тяжелое» [Вологодский, 2009. С. 260–261].
В Японии Окороков действительно вскоре оказался, но, видимо, совсем по другой причине. Можно предположить, что как один из руководителей министерства торговли и промышленности Российского правительства он имел связи с японскими предпринимателями, которыми и решил воспользоваться в трудную минуту. Судя по всему, в Японии он занимался изучением ее экономики. На такое предположение наталкивает тот факт, что в 1923 г. в Токио на русском языке был опубликован первый том его исследования, которое называлось «Япония. Торговля, промышленность, земледелие и экономическое положение».
Тогда же Окороков сблизился с эмигрировавшим в 1920 г. в Японию крупным дальневосточным рыбопромышленником и общественным деятелем П. К. Лавровым, бывшим эсером, избиравшимся депутатом Учредительного собрания, в 1917 г. служившим Камчатским областным комиссаром Всероссийского Временного правительства, осенью 1918 г. – Временного Сибирского правительства. П. К. Лавров намеревался серьезно заняться изучением и освещением в печати экономических отношений России и Японии. Его первым результатом, направленным на реализацию этого проекта, стал выпуск журнала «Экономический вестник». Журнал стал выходить с января 1923 г. два раза в месяц на русском и японском языках. Одним из его соредакторов являлся Окороков [Хисамут-динов, 2010. С. 102]. Как долго Александр Матвеевич продолжал заниматься этой работой и находился в Японии, пока неизвестно.
Последнее достоверное упоминание об Окорокове относится к концу 1920-х гг., когда он жил в Париже. По утверждению Б. В. Прянишникова, к тому времени Александр Матвеевич уже служил большевикам. Ему же Б. В. Прянишников приписывал роковую роль в судьбе бывшего заместителя председателя Совета министров Российского правительства С. Н. Третьякова, ставшего после встречи с Окороковым агентом ОГПУ–НКВД [Прянишников, 1979. С. 378].
Приведенный фактический материал об общественной и государственной деятельности Окорокова позволяет говорить о сложной и разнонаправленной траектории различных этапов его жизненного пути. Весной – осенью 1917 г. Александр Матвеевич занимал политическую позицию, которую можно определить как центристскую. С начала 1918 и по начало 1920 г. его взгляды и политическое поведение неуклонно и довольно быстро эволюционировали «вправо», вплоть до участия в администрации такого одиозного деятеля, как Г. М. Семенов. В эмиграции вектор политической деятельности Окорокова изменился на прямо противоположный, в результате чего он стал сотрудничать с Советской властью.
Такие «колебания» можно было бы квалифицировать как персональную неустойчивость и даже политическую беспринципность Окорокова. Но обращает на себя внимание такое важное обстоятельство: они не являлись чем-то исключительным и присущим только одному Окорокову. Аналогичная метаморфоза произошла со многими деятелями, которые во время гражданской войны верой и правдой служили контрреволюции и даже были в ее рядах на руководящих ролях. Достаточно напомнить фамилии товарища министра иностранных дел Временного Сибирского правительства, управляющего министерством иностранных дел Временного Всероссийского и Российского правительств Ю. М. Ключникова, атамана Сибирского казачьего войска, командующего Сибирской армией и управляющего военным министерством Временного Сибирского правительства П. П. Иванова-Ринова, Иркутского губернского комиссара Временного Сибирского и Временного Всероссийского правительств, управляющего Иркутской губернией Российского правительства П. Д. Яковлева.
В политическом поведении всех этих деятелей, включая Окорокова, несмотря на существенные различия исходных идейных позиций, обнаруживается общая характерная черта, которую можно квалифицировать как некую закономерность. Она заключается в том, что эти люди почти всегда позиционировали себя как государственники и видели свою главную миссию в служении не народам России, а ее государству. Поскольку после окончания гражданской войны реальной альтернативы большевистскому режиму больше не существовало, такие деятели пошли на сотрудничество с коммунистической властью. Тем самым они принесли в жертву советскому Левиафану не только собственные убеждения и, как вскоре оказалось, личные судьбы, но и интересы народов России.