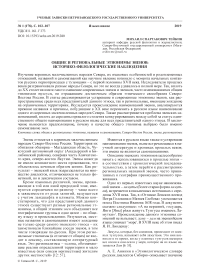Общие и региональные этнонимы эвенов: историко-филологические наблюдения
Автор: Теикин Михаил Спартакович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 1 (178), 2019 года.
Бесплатный доступ
Изучение коренных малочисленных народов Севера, их языковых особенностей и родоплеменных отношений, названий и самоназваний как научное явление возникло с момента начальных контактов русских первопроходцев с туземцами - с первой половины XVII века. Исследователи прошлых веков разграничивали разные народы Севера, но это не всегда удавалось в полной мере. Так, вплоть до ХХ столетия имело место смешение современных эвенов и эвенков, часто именовавшихся общим этнонимом тунгусы, не отражавшим достаточным образом этнического своеобразия Северо-Востока России. В статье рассматриваются устаревшие и современные этнонимы эвенов, как распространенные среди всех представителей данного этноса, так и региональные, имеющие хождение на ограниченных территориях. Исследуется происхождение наименований эвенов, анализируются прежние названия и причины, побудившие в ХХ веке переменить в русском языке наименование одного из коренных малочисленных народов Севера. Также рассматривается проблема эвенских самоназваний, вплоть до середины прошлого столетия конкурировавших между собой за статус единственного общего наименования в русском языке для всех представителей одного этноса. В заключение выносится предположение, почему в качестве общего этнонима выбрано было именно самоназвание эвен.
Общие и региональные этнонимы, названия и самоназвания, северо-восток России, эвены, регионализмы
Короткий адрес: https://sciup.org/147226387
IDR: 147226387 | УДК: 811.161.1’373 | DOI: 10.15393/uchz.art.2019.280
Текст научной статьи Общие и региональные этнонимы эвенов: историко-филологические наблюдения
Эвены относятся к коренным малочисленным народам Северо-Востока России. Территория их обитания обширна – Магаданская область, Чукотский автономный округ (Анадырский и Билибинский районы), северная часть Камчатского края, северо-восток Якутии. Эвены никогда не имели компактного места проживания, что объяснялось кочевым образом жизни. Как результат – эвенский язык подразделяется на множество диалектов, отличающихся не только фонетикой, но и лексическим составом.
Кроме языковых различий, эвены, проживающие в той или иной природной зоне, именуются сородичами по-разному – чаще всего в зависимости от рода занятий, ведущегося с учетом ландшафта и климата. Можно констатировать, что для представителей данного этноса существуют разные региональные этнонимы, а общий этноним эвен объединяет все географические группы в одно целое – по общему языку и происхождению. Разумеется, местные названия и самоназвания имеют хождение не только среди самого эвенского этноса – их заимствовали ближайшие соседи эвенов, в том числе говорящие по-русски. При этом региональные этнонимы (в отличие от общих) не входят в лексику, составляющую литературный язык. Это регионализмы – «слова, обозначающие реалии определенной территории и мало известные (или совсем неизвестные) жителям других местностей» [12: 57].
Имеются в русском языке также и устаревшие наименования эвенов, ныне встречающиеся в научной литературе и хрониках прошлых веков; эти имена не являются самоназваниями.
Описание эвенских этнонимов целесообразно начать с использовавшихся в прошлые эпохи – в соответствии с хронологической последовательностью, а затем перейти к рассмотрению региональных названий эвенов, часто привязанных к географии преимущественного проживания.
Одно из первых известных науке наименований эвенов – ламуты (более старая форма ламутки ), встречается в письменных источниках с середины XVII века. Так, в «Отписке Ленских воевод Петра Головина и Матвея Глебова» упоминается поход Постника Иванова 1638 года. В документе сказано следующее: «А на вершин ѣ , государь, Янги [Яны] р ѣ ки живутъ Тунгусы именемъ Ла-мутки»1. Происхождение данного этнонима сомнений не вызывает: ламу ~ лам на эвенкийском языке означает ‘море’. В XVIII веке об этом писал Я. И. Линденау:
Ламуты, которые, без сомнения, происходят от олен-ных тунгусов, называют себя ламутами. Это имя возникло в то время, когда у оленных тунгусов вымерли все олени и они осели у моря, которое на их языке называется Лам [6: 53].
-
А. Е. Аникин в «Этимологическом словаре русских диалектов Сибири» описывает значение
слова ламут – ‘эвен’, помечает его как литературное и устарелое, а также разъясняет происхождение: «Связано с тунг. назв. моря – эвенк. ла̄ му … эвен. на̄ м … < тунг. *lā mu » [1: 350]. Составитель словаря делает предположение, с каким водным объектом слово могло первоначально связываться: «Тунг. *lā mu относилось, вероятно, к Байкалу (ср. эвен. ла̄ му ~ ла̄ м ~ ла̄ мэ ~ на̄ м ‘море; название озера Байкал’) и было занесено на Север предками совр. эвенов» [1: 350]. Вывод же следует однозначный и научно достоверный: «Так или иначе, этимологически л˚ (ламут. – М. Т. ) = ‘помор’» [1: 351].
Следует также отметить, что до революции встречалось именование эвенов тунгусами – с полным или частичным отождествлением последних с родственными им эвенками. Одни авторы прошлых эпох, относя ламутов к тунгусам, все же отмечали неполную тождественность данных этнонимов, другие же ставили между ними знак равенства. Так, Я. И. Линде-нау в «Описании народов Сибири» называет ламутов (эвенов) пешими тунгусами [7: 53], хоть и отличает их от собственно тунгусов. С. П. Крашенинников пишет: «Тунгусы или Ламутки[,] собравшись челов ѣ къ до 50 и боль-ше[,] вы ѣ жжаютъ въ лодочкахъ на море <…>»2. А. Н. Радищев отмечает:
Пятого поколения народы суть: Тунгусы <…>. Тунгусы, разделяющиеся на многие роды и поколения, к которым принадлежат Ламуты, то есть: поморские жители, кочуют от Енисея до пределов Китайских и до берегов Охотского моря3.
Таким образом, в понимании А. Н. Радищева ламуты относятся к тунгусам, хоть и упоминаются отдельно, в отличие от других «родов» и «поколений», о которых ничего не сказано.
Статистик и этнограф С. К. Патканов не считал тунгусов и ламутов разными народностями, а видел в них одну и ту же ветвь тунгусского племени. Исследователь ключевое внимание уделил «морскому» происхождению этнонима и на данном основании строил свои выводы:
[Название ламуты ] обыкновенно прим ѣ няется самими тунгусами для т ѣ хъ изъ своихъ сородичей, которые живутъ около моря, такъ какъ «ламуты» <…> означаетъ не бол ѣ е какъ «прибрежные или приморскіе жители»4.
Анализируя данные переписи населения 1897 года по Петропавловской округе (территория современного Камчатского края), где тунгусы и ламуты значатся порознь, С. К. Патканов замечает:
Но, какъ сказано выше, н ѣ тъ никакого основанія предполагать въ этой двойственности особыя племена тунгусовъ5.
Ученые, путешественники и ссыльнопоселенцы XVII, XVIII и XIX веков, запечатлевшие свои исследования в письменном виде, выделя- ли ламутов на общем фоне, относя их при этом к тунгусам. Правда, нельзя говорить и о полном отождествлении этнонимов ламут и тунгус: носители первого включаются в более широкое этническое образование, но в качестве существенного отличительного признака указывается на приморское проживание ламутов. Однако для точной этнической дифференциации народов, называемых сегодня эвенами и эвенками, этого явно было недостаточно: эвены живут не только у моря. Таким образом, можно констатировать, что вплоть до ХХ века ламуты в отдельный этнос не выделялись, а так или иначе соотносились с тунгусами. Результатом было смешение этнонимов и непоследовательное их употребление.
Безусловно, и эвены, и эвенки имеют общее происхождение. Языки обоих этносов относятся к тунгусо-маньчжурской группе, на основании чего их правомерно называют – с лингвистической точки зрения – тунгусскими народами. М. Х. Белянская отмечает:
Эвены представляют собой этнос, наряду с эвенками и негидальцами принадлежащий к северной ветви тунгусов, однако в историко-этнографической литературе до начала 1930-х гг. их обычно не выделяли в самостоятельную этническую единицу [4: 15].
Применение одного этнонима для двух этносов было неудобно не только для научных, но и практических целей, поэтому в ХХ веке окончательно отказались от использования термина тунгусы в отношении и эвенов (с прилагательным пеший или без), и эвенков.
Эвенки – близкородственный эвенам, но все же не тождественный им народ; это различные этносы, хоть и имеющие общее происхождение. Я. И. Линденау, несмотря на отождествление тунгусов с ламутами («Описание пеших тунгусов, или так называемых ламутов» [6: 53]), не ставит между ними знак равенства и правильно замечает с филологической точки зрения: «Их [ламутов] язык отличается от языка тунгусов» [6: 53]. Например, море по-эвенски нам [9: 187], в отличие от эвенкийского ламу ~ лам [5: 233] (последнее – диалектная форма), из которого и происходит слово ламут . Безусловно, слова имеют этимологическую связь: переход л в н объясняется тем, что в эвенском языке незаимствованные лексические единицы не могут начинаться на букву л . Из вышеизложенного очевидно, что этноним ламут являлся географически ограниченным – применявшимся к эвенам, обитающим у морских берегов; данное обстоятельство делало его не совсем точным для маркировки места проживания этноса.
Разумеется, географическая достоверность не самое главное требование для наименования народа: весьма часто соседей именуют по одному какому-либо признаку, и такой этноним становится затем общепринятым. Или же весь этнос может получить наименование по названию племени или субэтнической группы, входящих в него6.
Следует сказать, что происхождение этнонима ламуты от эвенкийского слова ламу (диал. лам ) ‘море’ не делало его неподходящим, почему он успешно использовался для наименования тунгусской народности на протяжении нескольких столетий – с XVII по XIX включительно. Переход на новый этноним произошел в первой половине ХХ века – после революции. Оценивая исторические реалии, следует предположить, что решение о смене наименования коренного малочисленного народа Севера принималось по причине того, что ламуты – не самоназвание, географическая же неточность (эвены живут не только на побережье моря) сыграла здесь далеко не ведущую роль. В тот же исторический период (1930-е годы) была попытка заменить привычный и научно устоявшийся этноним чукча на близкий к самоназванию луораветлан , но неологизм в русском языке не прижился. Дело в том, что этноним ламут до революции не закрепился в качестве единственно точного, охватывающего всех тех, кого сегодня принято называть эвенами. Если бы четкое этническое разграничение было проведено ранее, следствием чего стало бы прекращение смешения понятий тунгус и ламут , – последний мог бы стать национальным идентификатором определенного народа Крайнего Севера. Сего, однако, не произошло. Именно поэтому замена старого – не совсем точного – этнонима новым (произошедшая не стихийно, а сознательно проведенная) прошла в русском языке безболезненно. Словари, выпущенные во второй половине ХХ века, уже относят слово ламут к устаревшим. Так, в шестом томе семнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка», выпущенном в 1957 году, дается следующее объяснение слова ламуты : «Устаревшее наименование эвенов» [11: 52]. «Словарь русского языка» 1999 года под редакцией А. П. Евгеньевой так же характеризует данный этноним: «Устарелое название эвенов» [10: 163]. Более развернутое объяснение – с точным указанием временнóй границы использования слова – дается в 9-м томе «Большого академического словаря русского языка» 2007 года издания: «Прежнее название эвенов (употреблявшееся до 1930-х годов)» [2: 49].
В период официального утверждения нового этнонима эвенами называли себя, наряду с иными самоназваниями – зачастую конкурировавшими друг с другом на разных территориях, большинство представителей данного этноса; поэтому в русскую научную и этнографическую литературу, официальную документацию, а вслед за тем и во все остальные сферы жизни вошло именно это слово.
Относительно происхождения этнонима эвен существуют различные предположения. В. И. Цинциус связывает самоназвание с гла- голом эвдэй ‘спускаться с гор’ [16: 6], однако же более правдоподобной выглядит версия об этимологической связи этнонима с эвенским словом эвън ~ эвун ‘местный, здешний’, предложенная К. А. Новиковой [8: 11]. «Эвенско-русский словарь» В. А. Роббека и М. Е. Роб-бек слово эвув ~ эвуч переводит как ‘близкий, ближний’ [9: 339], что в определенной степени синонимично прилагательному местный.
К. А. Новикова верно отмечает: «Отдельные территориальные группы эвенов имеют различные самоназвания» [8: 9]. Ввиду немногочисленности и, главное, территориальной рассеянности эвенов наблюдается такое явление, как смешение этнонимов: региональные наименования этноса совпадают с названиями иных народов.
Так, существует малочисленный народ орочи, преимущественно проживающий в Хабаровском крае. При этом эвены Быстринского района Камчатского края также называют себя орочами, поскольку владеют оленьими стадами: по-эвенски оран значит ‘олень (домашний)’ [9: 224]. В. И. Цинциус отмечает: «Употребляя это название, они, по-видимому, противопоставляют себя “сидячим” эвенам…» [16: 6]. В настоящее время это региональный этноним, однако в прошлом он широко использовался и даже составлял конкуренцию этнониму эвен . По мнению Л. Н. Хахов-ской, «термин ороч охватывал не меньшие группы людей, чем “параллельные” термины» [15: 157]. Развивая тему, Л. Н. Хаховская указывает:
В период, когда территория Охотско-Колымского региона входила в зону деятельности Дальстроя, в конкурентных отношениях находились этнонимы ороч и эвен . Вследствие того, что трест обладал значительной хозяйственной и даже политической самостоятельностью, местные власти в своей практической деятельности могли до известной степени игнорировать предписания о переименовании тунгусов в эвенов и руководствоваться собственными сведениями, собираемыми среди местного населения, которое продолжало именовать себя орочами. Поэтому данный этноним в статистических и иных источниках выдвигается на первый план [15: 158].
Правда, весьма сомнительно, чтобы все население, учитываемое Дальстроем, именовало себя исключительно орочами и никак иначе. Так, В. И. Цинциус еще в период существования Дальстроя (в 1947 году) писала:
В Ольском и Быстринском районах эвены называют себя ороч . <…> Самоназвание эвен ( эwэн ~ эӯн , множественное число эwэсэл ~ эӯшел ) распространено в Охотском, Среднеколымском и других районах [16: 8].
-
В. А. Туголуков на основе собственных полевых материалов 1952 года указывает, что термином орочелы (или огочелы ) обозначалась группа оленных тунгусов северной части Охотского побережья, и замечает:
Этноним орочелы здесь употреблялся в начале 30-х годов текущего [ХХ] столетия; им обозначались эвены Северо-Эвенского и Ольского районов современной Магаданской области» [13: 212–213].
То же подтверждает К. А. Новикова [9: 10], но уточняет, что оседлые эвены ряда селений Охотского побережья (Олы, Армани и Тауйска) именуют себя на литературном языке эвнэ , такое же самоназвание (с учетом диалектных различий в произношении) зафиксировано у эвенов Ягоднинского, Среднеканского, Сусуманского районов Магаданской области, Чукотки, Пенжинского района Камчатки и Якутии. Таким образом, исходя из данных В. А. Туголукова и К. А. Новиковой, можно сделать вывод, что на значительной территории Охотско-Колымского округа, включавшего Ольский, Северо-Эвенский и Среднеканский районы, население называло себя ороч (ед. ч.) и орочэл (мн. ч.), чего нельзя сказать обо всей Магаданской области, не говоря о других территориях, где преобладало самоназвание эвен . Вполне возможно, что работники Дальстроя, отвечавшие за учет туземного населения, посчитали более «удобным» этноним ороч и записывали всех, кто называл себя орочами или эвенами, под первым именем, не вдаваясь в этнонимические подробности и не разбирая сложные вопросы самоидентификации народа. Отсюда полное отсутствие в статистических данных эвенов по всему Ольскому и Северо-Эвенскому районам, приводимых Л. Н. Хаховской [14: 52, 55–56], хотя, например, К. А. Новикова указывает, что в Ольском районе проживали группы с самоназванием эвен .
Дальстрой обладал достаточными хозяйственными и культурными ресурсами, чтобы под его влиянием в качестве общенародного был принят этноним ороч , а не эвен , если бы первый действительно имел более широкое распространение, нежели второй, или хотя бы равное с ним. Этого, однако, не произошло, и сегодня ороч является лишь региональным этнонимом, коим называет себя группа эвенов ограниченной территории. Кроме того, орочами именует себя народ, относящийся к южно-тунгусской ветви тунгусо-маньчжурской языковой группы. Данное обстоятельство не могло в конечном итоге не повлиять на то, чтобы для именования северно-тунгусского народа принять в русский язык отличный термин, тем более что широко распространенное самоназвание эвен давало благоприятный повод для этого.
Безоленные оседлые эвены, живущие у Охотского побережья и занимающиеся охотой, рыболовством, а также разведением собак, именуются мэнэ ‘оседлый’ ([8], [16]) – от слова мэнэдэк ‘летняя база’. Данный этноним объясняется тем, что взрослые мужчины летом перекочевывали с оленями, а женщин, стариков и детей оставляли на одном месте: необходимо было подготовиться к зиме, а женщинам – пошить на всех одежду. Разумеется, находящиеся на летней базе и занимающиеся хозяйством не имели возможности кочевать, поэтому логическая связь существительного мэнэ и прилагательного мэнэдэк четко прослеживается.
Эвены побережья именуют живущих в глуби материка донрэткэнами [8] ( дөнрэткэн ‘таежный, живущий в глуби материка’ – от слова дөнрэ ~ дөмӈэ ‘суша, материк; тайга, лес; местность, удаленная от моря’ [9: 96]). Донрэткэны занимаются оленеводством, а также охотой и рыболовством на озерах.
В свою очередь, эвены, живущие в отдаленных от моря районах, противопоставляют себя эвенам побережья и называют последних намат-канами ( наматӄан ~ намутӄан 7 ‘приморский житель, помор’ [8: 11], [9: 187] – от слова нам ‘море’).
Эвены, живущие в низовьях Колымы, называют себя илканами ( илӄан ‘настоящий, зрелый, возмужалый’ [9: 120]). Данный этноним имеет весьма ограниченное распространение. Прослеживается взаимосвязь регионального эвенского самоназвания с самоназванием родственных эвенам негидальцев – элькан бэйэнин (elkan böyönin) ‘настоящие люди’ [7: 108–109].
Существуют и более древние региональные этнонимы, ныне уже не встречающиеся в устной речи. Так, эвены, проживающие у реки Тауй, протекающей по северной части Хабаровского края и по Магаданской области, в прошлом называли себя товунканами , о чем упоминает А. А. Бурыкин [3: 251]. Поскольку данное самоназвание – региональный этноним во время контактов с аборигенами в районе Тауя слышали еще в XVII веке русские первопроходцы, при распределении народа, в те времена именовавшегося ламутами, по родам (в первую очередь в соответствии с тем, как сами эвены себя подразделяли), приречных жителей отнесли к тоуйскому роду.
Отдельные региональные этнонимы эвенов происходят от наименований местностей проживания [3: 253]. Так, самоназвание уяганкан восходит к названию реки Уега. Данный региональный этноним является также наименованием современного эвенского рода, распространенного от северо-востока Якутии до севера Камчатского края.
Таким образом, можно констатировать, что в зависимости от места проживания и рода деятельности различных групп эвенов различаются и их названия; в прошлом некоторые из них конкурировали между собой за признание в качестве общего обозначения всех представителей одного этноса. Данный феномен в наши дни не характерен для больших народов. Именно это и составляет уникальность малочисленных этносов.
Сегодня общим этнонимом для именования всей совокупности народа является эвен. Ламут по праву указывается в словарях в качестве устаревшего слова (то есть архаизма). Ороч, ранее конкурировавший с этнонимом эвен, особенно в период деятельности Даль-строя, ныне является всего лишь региональным самоназванием.
На основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод: благодаря проведенной этнологами и языковедами работе эвены имеют общий этноним и сегодня четко разграничивают- ся от остальных малочисленных народов, населяющих не только Северо-Восток, но и иные регионы России. Это играет положительную роль при изучении языковых и этнических особенностей эвенов и не в последнюю очередь способствует эффективным и плодотворным лингвистическим исследованиям.
THE EVENS’ COMMON AND REGIONAL ETHNONYMS: HISTORICAL
AND PHILOLOGICAL OBSERVATIONS
P. 107–218. (In Russ.)
Список литературы Общие и региональные этнонимы эвенов: историко-филологические наблюдения
- Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск: Наука, 2000. 768 с.
- Большой академический словарь русского языка. Т. 9. СПб.: Наука, 2007. 660 с.
- Бурыкин А. А. Эвенкийские и эвенские этнонимы Охотского побережья // Традиционная культура народов Восточной Азии. Вып. 3. Благовещенск, 2001. С. 246-253.
- Белянская М. Х. Традиция и современность: культура выживания северных тунгусов в Северо-Восточной Азии (историко-этнографический очерк). СПб.: Бельведер, 2004. 124 с.
- Василевич Г. М. Эвенкийско-русский словарь. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958. 804 с.
- Линденау Я. И. Описание народов Сибири. (Первая половина XVIII века). Магадан: Книжное издательство, 1983. 176 с.
- Мыльникова К. М., Цинциус В. И. Материалы по исследованию негидальского языка // Тунгусский сборник. I. Л.: Изд-во АН СССР, 1931. С. 107-218.
- Новикова К. А. Очерки диалектов эвенского языка. Ольский говор. Ч. 1. М.; Л: Изд-во АН СССР, 1960. 264 с.
- Роббек В. А., Роббек М. Е. Эвенско-русский словарь. Новосибирск: Наука, 2005. 356 с.
- Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. Т. 2. М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999. 736 с.
- Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. Т. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 1460 стб.
- Соколянская Н. Н. Теоретические и практические занятия по региональной лексике Крайнего Северо-Востока // Региональная лингвистика (Крайний Северо-Восток России) / Под ред. А. А. Соколянского. Магадан: СВГУ, 2016. С. 57-84.
- Туголуков В. А. Главнейшие этнонимы тунгусов (эвенков и эвенов) // Этнонимы. М.: Наука, 1970. С. 204-217.
- Хаховская Л. Н. Камчадалы Магаданской области (история, культура, идентификация). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2003. 325 с.
- Хаховская Л. Н. Коренные народы Магаданской области в ХХ - начале ХХI в. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2008. 229 с.
- Цинциус В. И. Очерк грамматики эвенского (ламутского) языка. Ч. 1. Л.: Учпедгиз, 1947. 272 с.