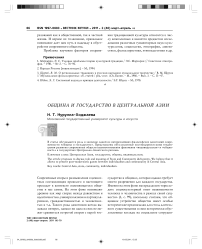Община и государство в Центральной Азии
Автор: Нурулла-Ходжаева Наргис Талатовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (40), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются роль и значение одной из интереснейших философских дихотомий современности «община и государство». Представлены обусловленные постмодернистскими тенденциями развития современных обществ взаимоотношения феноменов «индивидуализм» и «общинность» в государствах Центрально-Азиатского региона.
Центральная азия, государство, община, индивидуализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14488909
IDR: 14488909
Текст научной статьи Община и государство в Центральной Азии
Современные споры и размышления о ценностных составляющих прошлого и настоящего проходят в контексте изменяющегося общества и нас самих. На этом фоне возникают древние как мир споры: между равенством и идентичностью, универсализмом и партикуляризмом, гражданственностью и человечностью и т.д. Такого рода дихотомии всегда вызывали интерес, однако ни одна из них не может сравниться остротой споров с парой «го-
1997-0803 ВЕСТНИК МГУКИ
2 (40) март-апрель 2011 66-70
сударство и община», которая однако требует своего разрешения для каждого государства. Именно на этом фоне мы предлагаем «проследить социокультурный опыт выживаемости человека и человечества в рамках своей сущности» (1, с. 99), поскольку считаем, что общинное устройство общества имеет особые исторические предпосылки для столь длительного существования и свои исторически обусловленные взгляды на социальное сотрудни- чество, основанные на отказе от приоритета государства во взаимоотношениях гражда-нин/общество и отказе от принятия чужой идентичности.
Следующая ниже таблица представляет весьма приблизительно деления обществ в каждой из постсоветских республик Центрально-Азиатского региона:
Казахстан : местное общество представляет собой триединое целое, состоящее из частей-жузов: Старший (Улы жуз), Средний (Орта) и Младший (Киши) жузы, которые, в свою очередь, состоят из многочисленных кланов и общин.
Туркменистан : «Нация племён», как нередко называют эксперты специфику развития современного туркменского этноса (6). Туркмены говорят о наличии девяти (по данным других до 14) племен, а также около 5000 клановых групп.
Кыргызстан : киргизское общество состоит из четырнадцати крупных племен, внутри которых существуют многочисленные группировки и общины.
Узбекистан : местное общество имеет двенадцать региональных группировок, объединенных общей территорией (все они ориентированы на местные общинные интересы).
Таджикистан : наиболее крупных клановых делений насчитывается около девяти (и все они делятся на множество общинных институтов).
Ныне во всех пяти государствах Центрально-Азиатского региона народы, населяющие эти государства, пытаются представить себя в качестве граждан состоявшейся сплоченной социальной единицы – государства (того или иного). На деле, признав за собой статус «гражданина», люди остаются одновременно членами больших или малых и, в основном, разбросанных социальных общинных единиц.
Гражданство представляет собой одно из многочисленных понятий, которым обладает человек, одновременно будучи членом самых разных, частично дублирующих или отдельных общинных групп (12, p. 22). Такой положение дел невероятно осложняет ситуацию и, в контексте отсутствия признания общинной морали, утверждает человека во все более зацикленно-враждебной форме по отношению и к себе, и к окружающим. В этом плане интересно привести слова Михаила Херзфелда: «Курьезный симбиоз регистрируется между аргументами со стороны государства, которое настаивает на том, что оно должно вмешаться, с целью предотвращения окончательного коллапса гражданской морали, и восставшими критскими повстанцами, которые считают, что коллапс морали в их общинах происходит из-за постоянного вмешательства государства» (13, p. 8). Хотя это написано о другой культуре, тем не менее нельзя не заметить схожие мотивы споров между общинными единицами и государством, которые мы можем сейчас наблюдать в Душанбе, Ташкенте, Астане, Ашхабаде, Бишкеке и во всех прилегающих к ним городах и деревнях.
Многие видные ученые давно говорят о том, что «центральное правительство не должно думать, что оно ответственно за ежедневные расходы и нашу жизнь, и еще хуже притворяться, что оно учит морали, руководит нашими добродетельными качествами и является духовным наставником» (14, p. 42). Вероятно, это все еще сложно для недавно получивших независимость государств Центрально-Азиатского региона.
У всех пяти государств региона наблюдаются все больше настораживающих симптомов, которые, вкупе с разрушением социального порядка, дефицитом общинной морали, ведут ко все большему отчуждению этих народов от мировых демократических процессов и, в конце концов, вседозволенности. Поэтому мы зачастую становимся свидетелями картин, когда родители (учителя) спускаются в своем осознанном поведении до уровня своих детей (учеников), старцы стесняются своих внуков, су-дьи/врачи с легкостью забывают о своих обязательствах и т.д. и т.п. Вседозволенность и отсутствие моральных границ сложнее охарактеризовать, так как происходящие события/ действия случаются столь спонтанно, что почти невозможно не потеряться в смыслах и границах, которые приобретают слова «общество», «община», «государство», «индивид».
Из истории нам известно что границы между разными социальными и религиозными институтами не стирались на протяжении веков, так как мусульманин/мусульманка представлялись, одновременно, как индивидуум, член уммы (араб. – сообщество верующих) и – как член своей субэтнической общины. Поддерживалась атмосфера продуктивного диалога между социальными единицами. Само принятие ислама в этом регионе, вероятно, состоялась на основе того, что эта религия «имеет в качестве отправной точки общность, а не отдельного индивида, личность» (10, p. 281). Из 300 стихов Корана, непосредственно касающихся человеческой деятельности, вопросам отправления культа посвящено 120, а семейно-брачным-общинным отношениям – около 70 (5, c. 205). Именно возможность приспособиться, используя рецепты традиционной общинности, позволяла балансировать государствам, определяла культуру региона на протяжении ее долгой истории. Результатом такой политики стало выдвижения Маверанах-ра ( – Ma Wara’ un-Nahr , что означает «заречье» или «междуречье», по-арабски «Центральная Азии») в число наиболее экономически развитых и сильных регионов мира в раннем Средневековье.
Первые симптомы снижения авторитета общинности были зафиксированы еще в XVIII–XIX века, когда была инициирована активная колонизация региона. Интеллектуалы, начиная от Ахмада Дониша (1827–1897), Абая
Кунанбаева (1845–1904), джадиды (просветители-революционеры) первыми стали активно дистанцироваться от традиционных субэтнических общин. Например, в литературе эта тенденция проявила себя в бурном росте интереса к четырем литературным жанрам, которые позволяли выразить себя самого: роман, биография, автобиография и история (7). Наряду с этими тенденциями в регионе все более четче вырисовывались квазибуржуазные, которые поощрялись государством в их стремлении ввести новые европейские концептуальные социальные понятия по типу наций. Общинный институт стал открыто называться тормозом, его авторитет и ограничения выставлялись в негативном свете.
Однако сегодня все видится иначе, и с высоты времени нам очевидно, что увлеченность европейскими идеями социализма и либерализма привела к неожиданным последствиям. Эти движения сделали стремительным распространение принципов индивидуализма в регионе – подхода, объективно присущего капиталистическому и социалистическому укладам.
Община в регионе, так же как и в других частях мира, – это особый институт, который возник для решения реальных человеческих проблем, для создания, сохранения, поддержки чувства взаимопомощи: «Человеческие существа не приходят вместе, чтобы быть вместе; они приходят к тому чтобы быть вместе, для того, чтобы делать что-то вместе» (15, p. 43). Используя эту формулу, мы можем выделить наиболее характерные черты общины, которые аккумулировались на протяжении истории и все еще могут быть отреставрированы:
-
1. Прежде всего, это решение определенного круга трудовых задач, этот круг можно менять, ссужая или, наоборот, расширяя – до уровня фундаментальных. Разрыв этого круга происходил на протяжении истории не так часто, фиксировались скорее неумелые попытки заменить его, как, например, при насильственном оседании кочевых общин казахов и киргизов или учреждении хлопковой монокультуры в Таджикистане, Узбекистане, что, естественно, снизило потенциальное влияние общины.
-
2. Община – институт, имеющий авторитет и уважение, отличающийся от механизма власти, используемого государством. М. Вебер называл понятие власти социологически аморфным, так как для осуществления власти не предполагается наличия каких-либо особых человеческих качеств или каких-то особых обстоятельств (9), но важным для власти остается сила, тогда как «авторитет общины основан … на принятии консенсуса. Легитимность имеет в этом случае существенное значение» (16, p. 172). Другими словами, речь не может идти об осознанном соглашении, это скорее процесс, преломляющийся через сформированные традиции, моральные устои, обычаи. Именно отсюда берет начало сложная социальная эквилибристика: власть авторитарного государства подразумевает обязательное подчинение и расцветает при условии слома авторитета общины. Если же современное государство в регионе откажется от деспотизма, лишь тогда оно будет в состоянии признать потенциал и легитимность общины.
-
3. Община работает на передачу моральных устоев и традиций, которые служат в качестве постоянного и неотъемлемого фона при выполнении всех планируемых и исполняемых задач. Такие добродетельные традиции, как честь, верность, благородство, не могут быть взращены в социологическом вакууме. Они могут быть инкорпорированы в систему ценностей лишь тогда, когда культивируются в малых общинных группах. Аристотель говорил, что этическая добродетель возникает через привычки (4, c. 23). Приблизительно то же самое говорил и Авиценна, что «нравы, как хорошие, так и дурные, являются приоритетными, и человек, если у него еще нет некоего четко выраженного нрава, может обрести его … пока он не стал для него привычным. А под привычным я подразумеваю регулярный и многократный повтор одного и того же действия в течение длительного времени и в короткие промежутки» (3, c. 121). Общинный механизм в состоянии представить такую «регулярность», или – иначе – традицию, которая и формирует нравственные устои человека.
-
4. Община обладает собственным механизмом внутренней взаимоподдержки и солидарности. То есть она пронизана корпоративным духом и, как целое, имеет превосходство над своими членами. «В общине всегда почти инстинктивно для членов говорить “мы”. И можно проследить по фазам разрушения общины в поднятии числа примеров, в которых чаще звучит “я” чем “мы”» (15, p. 44). Вероятно, поэтому так логично звучит описание общины одного из признанных экспертов О.А. Сухаревой: «При всей неоднородности жителей квартала, их классовом неравенстве, взаимной несвязанности их (в большинстве случаев) отношениями производственными и профессиональными – они были объединены в общину. Это соединяло все семьи квартала личными связями, общими интересами и обязанностями, участием в общих делах» (8, c. 56). На основе чувств взаимоподдержки предстают не менее эмоциональными чувства солидарности и защиты «своих». Эту специфику общины пытаются использовать власти предержащие в своих попытках создать политические партии (Таджикистан, Казахстан) и управляемые государством общины – махалля (Узбекистан). Однако ирония складывающей ситуации заключается в том, что такого рода партийные и непартийные общины, инициируемые со стороны государства, ориентируются в своих ценностях на существующую политическую власть, чего член общины принять не может, и соответственно возрождение истинной общины в таком случае не произойдет. Более того, следует обратить внимание на то, что нынешняя все усиливающаяся погоня за материальными благами ведет к потере уважения среди членов общины.
-
5. Община дистанцируется от государства, и это чувство независимости (или попытки оградиться) дает превосходство, позволяет сформировать реальное гражданское общество на общинной основе в регионе. Например, нынешняя центральная власть в Узбекистане, Казахстане и т.д. пытается мобилизовать народ, и эти действия напоминают время начала ХХ века, то есть период становления колониализма и учреждения Советского государства в регионе.

Тогда государство попыталось отделить индивидуумов от традиционных связей, и они не смогли защитится «от власти и законного подчинения, став добычей политических самозванцев» (11, p. 170). Сегодня мы можем получить ту же картину, когда индивидуум, превращаясь в изолированный атом внутри масс, скоро обнаружит тот самый дефицит духовной стабильности. Современные проблемы существования людей, обусловленные постмодернистскими тенденциями, все явственнее свидетельствуют, что социальный порядок, так же как и естественная среда, не могут быть искусственно адаптированы к нуждам людей. Не учитывая/ устраняя одно, мы получаем еще более сложную «социальную» болезнь, лечить которую становится мучительно трудно.
Именно поэтому в статье мы попытались представить некоторые размышления по теории общины и соблюдать принцип, чтобы «выдвигаемая теория не возвышалась не довлела над практикой, а исходила из познания ее сущности, определяя перспективы, сохраняя способность адаптироваться к объективным общественным условиям развития, а где-то и позволяя опережать, прогнозировать тенденции развития» (2, c. 31). Лишь на таком фоне мы сможем ближе подойти к пониманию дихотомии традиция-современность, которая, вероятно, в скором будущем будет определяющей в универсальной истории человеческого развития.