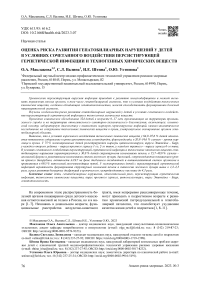Оценка риска развития гепатобилиарных нарушений у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ
Автор: Маклакова О.А., Валина С.Л., Штина И.Е., Устинова О.Ю.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Оценка риска в гигиене
Статья в выпуске: 3 (43), 2023 года.
Бесплатный доступ
Хроническая персистирующая вирусная инфекция приводит к развитию иммунодефицитов и может вызывать поражения многих органов, в том числе гепатобилираной системы, что в условиях воздействия техногенных химических веществ, особенно обладающих гепатотоксичностью, может способствовать формированию болезней пищеварительной системы. Изучены особенности риска развития гепатобилиарных нарушений у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ. Проведено клиническое обследование 324 детей в возрасте 6-17 лет, проживающих на территории промышленного города и на территории относительного санитарно-гигиенического благополучия, включающее: клинический осмотр, лабораторную диагностику с выявлением маркеров герпесвирусных инфекций, химико-аналитическое исследование на содержание техногенных химических веществ в крови, ультразвуковое сканирование органов гепатобилиарной области. Выявлено, что в условиях аэрогенного воздействия техногенных химических веществ у 64,9-97,6 % детей отмечается повышенное содержание в крови ароматических углеводородов, формальдегида, в 20,8-34,6 % случаев - уровня марганца и хрома. У 75 % экспонированных детей регистрируются маркеры цитомегаловируса, вируса Эпштейна - Барр, у каждого второго ребенка - вируса простого герпеса 1-го, 2-го типов, у каждого третьего - вируса герпеса 6-го типа. В условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ гепатобилиарные нарушения характеризуются у 30,8 % детей структурными изменениями печени, в 15,7-48,8 % случаев - аномалией формы и реактивными изменениями стенки желчного пузыря, дисхолией, сопровождаются повышением уровня прямого билирубина, активности АЛАТ на фоне дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем организма и проявляются в 69,5 % патологией желчевыводящих путей. У экспонированных детей с персистирующей герпетической инфекцией вероятность формирования структурных изменений печени и патологии желчного пузыря выше в 1,2-2,3 раза, а риск развития билиарных дисфункций и хронического гастродуоденита у них выше до 4,3 раза.
Дети, гепатобилиарные нарушения, относительный риск, персистирующая герпетическая инфекция, техногенные химические вещества, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, вирус эпштейна - барр, гепатотоксичность
Короткий адрес: https://sciup.org/142239921
IDR: 142239921 | УДК: 613.95: | DOI: 10.21668/health.risk/2023.3.07
Текст научной статьи Оценка риска развития гепатобилиарных нарушений у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ
На современном этапе распространенность болезней органов пищеварения среди детского населения остается высокой не только в России, но и в мире [1–7]. Начинаясь в дошкольном возрасте, функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, имея непрерывно рецидивирующее течение, могут приводить в подростковом возрасте к развитию хронической гастродуоденальной и гепатобилиарной патологии, что способствует ухудшению качества жизни детей и подростков [1, 8–11].
В настоящее время развитая транспортная инфраструктура и увеличение объемов промышленного производства ведут к интенсивному загрязнению окружающей среды различными химическими соединениями [12, 13]. Согласно данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха относится ко второму по значимости фактору риска развития неинфекционных заболеваний [14]. В промышленно развитых регионах Российской Федерации, согласно данным многочисленных эпидемиологических исследований, уровень заболеваемости населения выше, в том числе болезнями пищеварительной системы [15–17].
Антропогенные химические факторы окружающей среды, поступая в организм преимущественно аэрогенно и / или перорально, подвергаются процессам детоксикации, преимущественно в печени, повреждение которой может быть связано не только с гепатотоксичностью ксенобиотиков, но и с продуктами их биотрансформации [15, 16, 18, 19]. Техногенные химические вещества помимо непосредственного воздействия на органы-мишени также могут приводить к нарушению процессов нейроэндокринной регуляции, истощению энергетических и пластических резервов органов и систем организма и, как следствие, формированию различной патологии [19–21].
В настоящее время герпесвирусная инфекция имеет высокую распространенность среди всех групп населения, что обусловлено персистенцией и длительной бессимптомной циркуляцией вируса в организме человека, начиная с детского возраста [22–25]. Известно, что герпесвирусы приводят к функциональной иммунной недостаточности, способствуя развитию хронического воспаления, а также обладают тропностью к клеткам лимфоидной ткани и печени, вызывая в ней дистрофические изменения гепатоцитов и явления холестаза [24–29].
В современных условиях, по данным ряда исследователей, происходят изменения течения инфекционного эпидемического процесса. Показано, что на территориях с загрязнением окружающей среды техногенными веществами выше уровень инфекционной патологии, которая чаще имеет хроническое течение [30, 31]. Однако представлено мало работ, посвященных изучению особенностей течения герпетической инфекции в условиях воздействия антропогенных факторов среды обитания.
Таким образом, одним из актуальных вопросов является изучение особенностей развития гепатобилиарных нарушений у детей с герпетической инфекцией в условиях аэрогенного воздействия техногенных химических факторов.
Цель исследования – изучение особенностей риска развития гепатобилиарных нарушений у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ.
Материалы и методы. Для изучения особенностей развития гепатобилиарных нарушений методом случайной выборки проведено клиническое обследование 213 детей (46,9 % мальчиков и 53,1 % девочек, средний возраст – 9,84 ± 0,21 г.), проживающих на территории промышленного города Пермского края, где в атмосферном воздухе присутствовали ароматические углеводороды (бензол, ксилолы). Среднесуточные концентрации формальдегида в 1,7 раза, содержания марганца – в 4,8 раза превышали референтные концентрации при хроническом ингаляционном воздействии ( RfC хр.) ( р < 0,05). Среднесуточные концентрации хрома были в 2,6 раза выше, чем на территории сравнения ( р < 0,05). Группа сравнения включала 111 детей (54,1 % мальчиков и 45,9 % девочек, средний возраст – 9,49 ± 0,29 г.), проживающих на территории относительного санитарного благополучия. Группы сопоставимы по социальным показателям и половому составу ( р = 0,219–0,339). Критерием исключения из исследования являлось наличие у ребенка острого респираторного заболевания, обострения хронической соматической патологии или органической патологии нервной системы на момент осмотра.
Проведенное клиническое обследование отвечало этическим принципам Хельсинкской декларации (с изменениями и дополнениями 2008 г.) и Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP)1 и было одобрено этическим комитетом ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» (протокол № 8 от 2021 г.). Перед началом исследования у законных представителей детей было получено добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство.
Клиническое обследование детей включало медико-социальное анкетирование, осмотр врачами-специалистами (педиатр, гастроэнтеролог) с анализом медицинской карты ребенка (форма № 112/у и форма № 026/у-2000), лабораторную диагностику (общеклинический и биохимический анализы крови, иммуноферментный анализ крови на содержание титров IgG к вирусу простого герпеса 1, 2-го типов (HSV1,2), цитомегаловирусу (CMV), NA-антигенам вируса Эпштейна – Барр (EBV-NA), полимеразную цепную реакцию мазков буккального эпителия для выявления ДНК простого герпеса 6-го типа (HHV6), цитомегаловируса (CMV), вируса Эпштейна – Барр (EBV)) и химико-аналитическое исследование крови. Лабораторная диагностика выполнена по стан- дартным методикам, изменения исследуемых показателей оценивались по возрастным физиологическим нормативам.
Химическо-аналитическое исследование содержания техногенных химических веществ в биосредах (крови) проводили в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.765-99 «Газохроматографический метод количественного определения ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, о-,м-,п-ксилол) в биосредах (кровь)», МУК 4.1.2108-06 «Определение массовой концентрации фенола в биосредах (кровь) газохроматографическим методом», МУК 4.1.2111-06 «Измерение массовой концентрации формальдегида, ацетальдегида, пропионового альдегида, масляного альдегида и ацетона в пробах крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», МУК 4.1.3230-14 «Измерение массовых концентраций химических элементов в биосредах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»2. Концентрации химических соединений в биосредах обследованных детей оценивали относительно региональных фоновых уровней содержания анализируемых соединений в крови детского населения, проживающего на экологически благополучных территориях Пермского края.
Для оценки размеров, состояния и структурных особенностей органов гепатобилиарной зоны проведено ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, внепеченочных желчных протоков и висцеральных лимфоузлов брюшной полости по стандартной методике на аппарате экспертного класса Vividq (GE Vingmed Ultrasound AS, Норвегия) с использованием конвексного (1,8–6,0 МГц) и линейного датчиков (4,0–13,0 МГц). Линейные размеры органов оценивались по нормативам, предложенным И.В. Дворяковским с соавт.3
Анализ полученных результатов осуществлялся стандартными методами описательной статистики. Проведен расчет отношения шансов ( OR ) и относительного риска ( RR ) формирования гепатобилирной патологии и их 95%-ных доверительных интервалов ( CI ), достоверность нижней границы которых была выше 1,0. Наличие причинно-следственных связей установлено путем математического моделирования методом однофакторного дисперсионного анализа, оценивались критерий Фишера ( F ), коэффициент детерминации ( R2 ) и t- критерий Стьюдента при уровне статистической значимости р ≤ 0,054.
Результаты и их обсуждение. Оценка результатов химико-аналитического исследования биосред показала присутствие в крови обследованных детей ароматических углеводородов ( р < 0,05). Среднее содержание бензола, толуола, п-, м-ксилола было в 1,2–4,25 раза выше у детей группы наблюдения ( р = 0,013–0,00009), при этом у 2/3 детей регистрировались пробы с повышенной концентрацией бензола и п-, м-ксилола, в 92,1 % случаев – толуола, в группе сравнения таких детей было в 1,2–1,8 раза меньше ( р = 0,004–0,0001) (табл. 1).
У 19,4–26,3 % обследованных детей отмечалась контаминация биосред фенолом ( р = 0,157). Средняя концентрация формальдегида в крови практически у всех детей (95,8–97,6 %) значимо превышала фоновые значения ( р < 0,05) и была в 1,2 раза выше в группе наблюдения ( р = 0,019).
Уровни металлов в крови обследованных находились в пределах фоновых уровней, однако в группе наблюдения их содержание было в 1,2 раза выше ( р = 0,033–0,0001). В группе наблюдения в 2,2 раза чаще встречались повышенное содержание марганца в крови (20,8 против 9,6 % в группе сравнения, р = 0,015) и в 1,4 раза – хрома (34,6 против 24,3 %, р = 0,077).
Таблица 1
Среднее содержание техногенных химических веществ в крови обследованных детей, мг/дм3
|
Химическое вещество |
Фоновый уровень |
Группа наблюдения |
Группа сравнения |
Достоверность различий между группами ( р ) |
|
Бензол |
0 |
0,0034 ± 0,00019* |
0,0008 ± 0,0001* |
0,00009 |
|
Толуол |
0 |
0,0023 ± 0,00021* |
0,0019 ± 0,00014* |
0,0019 |
|
о-ксилол |
0 |
0,0032 ± 0,0003* |
0,0043 ± 0,0005* |
0,032 |
|
п-, м-ксилол |
0 |
0,0036 ± 0,0003* |
0,0026 ± 0,0004* |
0,013 |
|
Фенол |
0,0037–0,01 |
0,0059 ± 0,001 |
0,0057 ± 0,001 |
0,703 |
|
Формальдегид |
0,005–0,0076 |
0,041 ± 0,002* |
0,033 ± 0,001* |
0,019 |
|
Марганец |
0,009–0,017 |
0,014 ± 0,0004 |
0,012 ± 0,0004 |
0,033 |
|
Хром |
0,0007–0,0047 |
0,0047 ± 0,0003 |
0,0039 ± 0,0002 |
0,0001 |
П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с фоновым уровнем ( p < 0,05).
Таблица 2
Средние концентрации IgG-антител к антигенам герпесвирусов в сыворотке крови обследованных детей, Ме [25; 75], усл. ед.
|
Маркер герпесвирусов |
Группа наблюдения |
Группа сравнения |
Достоверность различий между группами ( р ) |
|
HSV1,2 IgG, усл. ед. |
0,68 [0,45; 5,39] |
0,45 [0,25; 5,13] |
0,00004 |
|
CMV IgG, усл. ед. |
2,06 [1,09; 3,00] |
2,26 [0,73; 4,37] |
0,304 |
|
EBV-NA IgG, усл. ед. |
72,21 [16,07; 111,48] |
67,74 [0,87; 144,38] |
0,771 |
При исследовании мазков из ротоглотки методом полимеразной цепной реакции практически у каждого третьего обследованного ребенка выявлено наличие вируса герпеса 6 типа, у каждого третьего – вируса Эпштейна – Барр, в единичных случаях – цитомегаловируса ( р = 0,466–0,804), при этом величина вирусной нагрузки ДНК HHV6, EBV, CMV не имела значимых различий между группами ( р = 0,107–0,862).
У 3/4 детей в группе наблюдения и 2/3 детей в группе сравнения определялись IgG-антитела к антигенам CMV и ядерному антигену EBV-NA ( р = 0,251–0,291). Количество детей с IgG-антителами к антигенам HSV1,2 было в 1,2 раза больше в группе наблюдения ( р = 0,421), при этом содержание HSV1,2 IgG в сыворотке крови было в 1,5 раза выше, чем у детей группы сравнения ( р = 0,00004) (табл. 2).
Установлено, что каждый второй обследованный ребенок имел маркеры нескольких герпесвирусов ( р = 0,632).
По данным клинического обследования, у 84,5–81,1 % детей выявлена патология пищеварительной системы (р = 0,436), в структуре которой в группе наблюдения в 69,5 % случаев встречались болезни желчевыводящих путей, что было в 1,2 раза чаще, чем в группе сравнения (57,7 %, р = 0,034). Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта в 4,3 раза преобладали в группе наблюдения (15,5 против 3,6 % в группе сравнения, р = 0,001). Реактивный гепатит диагностирован у 17 детей группы наблюдения (7,9 против 3,6 % в группе сравнения, р = 0,126). Установлено наличие достоверной причинно-следственной связи развития па- тологии печени при повышении содержания в крови марганца, хрома, п-м-ксилола, толуола и фенола (R2 = 0,127–0,794; 32,70 ≤ F ≤ 418,34; р = 0,0001) и уровня HSV1,2 IgG, CMV IgG, EBV-NA IgG в крови (R2 =0,151–0,709; 34,66 ≤ F ≤ 507,29; р = 0,0001). Вероятность возникновения билиарной дисфункции в 1,2 раза (RR = 1,205; DI: 1,004–1,447), а хронического гастродуоденита – в 4,3 раза была выше у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ (RR = 4,299; DI: 1,563–11,828).
Жалобы диспепсического характера в 1,5 раза чаще предъявляли дети группы наблюдения (83,1 против 54,5 % в группе сравнения, р = 0,0001), при этом практически у каждого второго ребенка отмечались боли в животе (54,1 %) и нарушения аппетита (56,8 %), в группе сравнения таких детей было в 1,5–3,6 раза меньше (14,9 и 38,6 % соответственно, р = 0,005–0,0001). Установлено, что вероятность появления диспепсических жалоб у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ в 4,1 раза выше ( OR = 4,115; DI : 2,300–7,361).
Результаты ультразвукового сканирования гепатобилиарной области показали отсутствие патологии органов гепатобилиарной области у 5,7 % детей группы наблюдения, что было в 3,2 раза реже, чем в группе сравнения ( р = 0,001) (табл. 3). Установлено, что вероятность возникновения гепатобилиарных нарушений в 1,15 раза выше у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ ( RR = 1,148; DI : 1,034–1,275).
Таблица 3
Результаты ультразвукового сканирования печени и желчного пузыря у обследованных детей, %
|
Показатель |
Группа наблюдения |
Группа сравнения |
Достоверность различий между группами ( р ) |
|
Ультразвуковая норма органов гепатобилиарной области |
5,7 |
18,5 |
0,001 |
|
Патологические изменения печени |
61,0 |
51,1 |
0,121 |
|
Увеличение линейных размеров |
41,3 |
41,3 |
1,0 |
|
Изменение структуры печени, в том числе: |
30,8 |
16,3 |
0,01 |
|
- реактивные изменения |
19,2 |
10,9 |
0,082 |
|
- диффузные изменения |
10,5 |
5,4 |
0,162 |
|
- очаговые изменения |
1,2 |
– |
– |
|
Патологические изменения желчного пузыря, в том числе: |
83,7 |
68,5 |
0,004 |
|
- аномалии формы желчного пузыря |
48,8 |
33,7 |
0,018 |
|
- увеличение объема желчного пузыря |
45,4 |
45,7 |
1,0 |
|
- реактивные изменения стенки желчного пузыря |
15,7 |
6,5 |
0,031 |
|
- наличие признаков дисхолии |
41,9 |
30,4 |
0,066 |
Патологические изменения печени в 1,2 раза чаще отмечались у детей группы наблюдения, при этом увеличение линейных размеров печени встречалось у 41,3 % обследованных детей в обеих группах. Выявлено, что изменения структуры печени регистрировались в 1,9 раза чаще у детей в группе наблюдения (30,8 против 16,3 % в группе сравнения, р = 0,01), преимущественно в виде наличия реактивных изменений в 19,2 % случаев (в группе сравнения – 10,9 %, р = 0,082), при этом вероятность структурных изменений печени у детей группы наблюдения была в 2,3 раза выше ( OR = 2,286; DI : 1,204–4,340). Установлено наличие достоверной причинно-следственной связи развития изменений структуры печени при повышении содержания в крови марганца и толуола ( R2 = 0,359–0,743; 143,55 ≤ F ≤ 529,85; р = 0,0001) и уровня HSV1,2 IgG и CMV IgG в крови ( R2 = 0,743–0,794; 515,58 ≤ F ≤ 780,66; р = 0,0001).
Патология желчного пузыря встречалась в 1,2 раза чаще у детей группы наблюдения (р = 0,004) (см. табл. 3), при этом у каждого второго ребенка диагностировались аномалии формы желчного пузыря (фиксированный перегиб, перегородка, перетяжка), а в 41,9 % случаев – нарушение реологии желчи с наличием осадка (дисхолия), что было в 1,4 раза чаще, чем в сравниваемой группе (33,7 и 30,4 % соответственно, р = 0,018–0,066). Кроме того, у 15,7 % экспонированных детей с персистирующей герпетической инфекцией отмечались реактивные изменения стенки желчного пузыря (в группе сравнения – 6,5 %, р = 0,031). Выявлено, что вероятность формирования патологии желчного пузыря в 1,2 раза выше у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ (RR = 1,223; DI: 1,049–1,425). Установлено наличие достоверной причинно-следственной связи развития аномалий формы желчного пузыря, дисхолии при повышении содержания в крови марганца, толуола и п-, м-ксилола (R2 = 0,278–0,729; 80,16 ≤ F ≤ 525,89; р = 0,0001) и реак- тивных изменений стенки желчного пузыря и уровня HSV1,2 IgG и CMV IgG в крови (R2 =0,145–0,609; 28,27 ≤ F ≤ 325,78; р = 0,0001).
Реактивная гиперплазия лимфоузлов в брюшной полости в 1,2 раза чаще регистрировалась у детей группы сравнения (67,4 против 54,1 % в группе наблюдения, р = 0,037), при этом наиболее часто встречалась реакция лимфатических узлов гепатобилиарной зоны (в 41,9 % случаев в группе наблюдения и в 56,5 % – в группе сравнения, р = 0,024). Установлено наличие достоверной причинно-следственной связи развития гиперплазии лимфоузлов гепатобилиарной области уровня HSV1,2 IgG в крови, величины вирусной нагрузки ДНК HHV6, EBV ( R2 = 0,519–0,898; 181,97 ≤ F ≤ 1641,69; р = 0,0001).
По данным лабораторного исследования средние показатели у обследованных детей находились в пределах нормативных значений, при этом содержание прямого билирубина, С-реактивного протеина и уровень активности АЛАТ были достоверно выше у детей группы наблюдения ( р = 0,032–0,003), что может свидетельствовать о тенденции к развитию гепатоцеллюлярной дисфункции (табл. 4). Отмечено, что повышенные показатели прямого билирубина встречались в 1,5 раза чаще в группе наблюдения (15,1 против 10,0 % в группе сравнения, р = 0,211). Установлено наличие достоверной причинноследственной связи повышения уровня прямого билирубина при увеличении содержания в крови марганца и фенола ( R2 =0,176–0,295; 54,59 ≤ F ≤ 102,65; р = 0,0001).
Наличие дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем организма отмечено у детей обеих групп. Так, содержание малонового диальдегида (МДА) в плазме крови у детей группы наблюдения было выше физиологического уровня ( p < 0,05), но достоверно ниже показателя группы сравнения ( р = 0,008). Повышенные значения МДА регистрировались у 53,0–60,9 % обследованных ( р = 0,180). Установлено наличие зависимости между вероятностью
Таблица 4
Лабораторные показатели у обследованных детей, Ме [25; 75]
|
Показатель |
Нормативные значения |
Группа наблюдения |
Группа сравнения |
Достоверность различий между группами ( р ) |
|
Общий белок, г/дм3 |
60–80 |
74,0 [71,0; 77,0] |
73,0 [70,0; 75,0] |
0,013 |
|
Альбумины, г/дм3 |
35–50 |
44,0 [42,0; 46,0] |
43,0 [41,0; 44,0] |
0,039 |
|
Общий билирубин, мкмоль/дм3 |
0–18,8 |
10,0 [8,2; 13,4] |
9,5 [7,9; 12,1] |
0,333 |
|
Прямой билирубин, мкмоль/дм3 |
0–4,3 |
2,8 [1,9; 3,6] |
2,3 [1,7; 3,1] |
0,032 |
|
АСАТ, Е/дм3 |
6–37 |
26,0 [22,0; 30,0] |
27,0 [23,0; 31,0] |
0,410 |
|
АЛАТ, Е/дм3 |
5–42 |
15,0 [12,0; 18,0] |
13,0 [11,0; 16,0] |
0,003 |
|
Щелочная фосфотаза, Е/дм3 |
71–645 |
341,0 [249,0; 475,0] |
447,5 [356,0; 564,0] |
0,0001 |
|
Триглицериды, ммоль/дм3 |
0,3–1,7 |
0,7 [0,57; 0,97] |
0,79 [0,57; 1,01] |
0,316 |
|
Общий холестерин, ммоль/дм3 |
3,11–5,44 |
4,08 [3,58; 4,53] |
4,07 [3,67; 4,64] |
0,306 |
|
СРБ, мг/дм3 |
0–12 |
0,45 [0,03; 12,0] |
0,3 [0,01; 0,4] |
0,024 |
|
Малоновый диальдегид, мкмоль/см3 |
1,8–2,5 |
2,6 [2,18; 2,96]* |
2,81 [2,34; 3,12]* |
0,008 |
|
Антиоксидантная активность плазмы крови, % |
36,2–38,6 |
33,82 [29,1; 37,5]* |
32,0 [28,7; 36,2]* |
0,142 |
П р и м е ч а н и е : * – достоверность различий с нормативным уровнем ( p < 0,05).
увеличения содержания МДА в крови и повышенной концентрацией формальдегида в крови ( R2 = 0,388; F = 161,45; р = 0,0001) и уровня EBV-NA IgG в крови ( R2 = 0,446; F = 238,72; р = 0,0001). Выявлено снижение общей антиоксидантной активности (АОА) плазмы крови у обследованных детей относительно физиологической нормы ( р = 0,0001). Пробы с пониженным уровнем АОА встречались в 68,9–75,5 % случаев ( р = 0,218). Установлено наличие обратной зависимости снижения активности АОА от уровня марганца в крови ( R2 = 0,209; F = 90,91; р = 0,0001) и уровня HSV1,2 IgG в крови ( R2 = 0,415; F = 168,94; р = 0,0001).
Выводы:
-
1. В условиях аэрогенного воздействия техногенных химических веществ в концентрациях до 4,8 RfC хр . у 64,9–97,6 % детей отмечается повышенное содержание в крови ароматических углеводородов, формальдегида, в 20,8–34,6 % случаев – уровня марганца и хрома.
-
2. У 74,5–77,0 % экспонированных детей выявлены маркеры цитомегаловируса, вируса Эпштейна – Барр, у 46,5 % – вируса простого герпеса 1, 2-го типов, у 31,3 % – вируса герпеса 6-го типа.
-
3. Установлено, что вероятность структурных изменений печени и формирования патологии желчного пузыря выше в 1,2–2,3 раза у экспонированных детей с персистирующей герпетической инфекцией. При этом гепатобилиарные нарушения у них проявляются диспепсическими жалобами (нарушение аппетита, боли в животе) в 83,1 % случаев, характеризуются структурными изменениями печени, аномалией формы и реактивными изменениями стенки желчного пузыря, дисхолией до 48,8 % случаев и сопровождаются повышением уровня прямого билирубина и активности АЛАТ на фоне дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем организма.
-
4. В условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ относительный риск формирования билиарных дисфункций и хронической патологии у детей составляет 1,2–4,3.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Оценка риска развития гепатобилиарных нарушений у детей в условиях сочетанного воздействия персистирующей герпетической инфекции и техногенных химических веществ
- Радченко О.Р., Уразманов А.Р., Валиев Р.И. Научное обоснование медико-гигиенических мероприятий по снижению заболеваемости болезнями органов пищеварения у подростков // Вестник современной клинической медицины. - 2022. - Т. 15, Вып. 3. - С. 80-86. DOI: 10.20969/VSKM.2022.15 (3).80-86
- Лазарева Л.А., Гордеева Е.В. Анализ заболеваемости детей и подростков болезнями органов пищеварения // Международный научно-исследовательский журнал. - 2017. - № 1-1 (55). - С. 133-135. DOI: 10.23670/IRJ.2017.55.104
- Основные тенденции заболеваемости среди детского населения / А.А. Антонова, Г.А. Яманова, В.Ф. Боговде-нова, Д.Н. Умарова // Международный научно-исследовательский журнал. - 2021. - № 1-3 (103). - С. 6-9. DOI: 10.23670/IRJ.2021.103.1.054
- Gastro-intestinal symptoms in children: Primary care and specialist interface / V. Dipasquale, D. Corica, S.M.C. Gra-maglia, S. Valenti, C. Romano // Int. J. Clin. Pract. - 2018. -Vol. 72, № 6. - P. 13093. DOI: 10.1111/ijcp.13093
- An observational study of headaches in children and adolescents with functional abdominal pain: Relationship to mucosal inflammation and gastrointestinal and somatic symptoms / C. Friesen, M. Singh, V. Singh, J.V. Schurman // Medicine (Baltimore). - 2018. - Vol. 97, № 30. - P. e11395. DOI: 10.1097/MD.0000000000011395
- Miller J., Khlevner J., Rodriguez L. Upper Gastrointestinal Functional and Motility Disorders in Children // Pediatr. Clin. North. Am. - 2021. - Vol. 68, № 6. - P. 1237-1253. DOI: 10.1016/j.pcl.2021.07.009
- Ермолицкая М.З. Прогнозирование заболеваемости болезней органов пищеварения на территории Российской Федерации // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2023. - T. 31, № 6. - С. 20-26. DOI: 10.35627/2219-5238/2023-31-6-20-26
- Tенденции заболеваемости и динамика хронизации патологии у детей 0-14 лет в Российской Федерации / М.Н. Бантьева, Е.М. Маношкина, T.A. Соколовская, Э.Н. Матвеев // Социальные аспекты здоровья населения: электронный научный журнал. - 2019. - T. 65, № 5. - С. 10. DOI: 10.21045/2071-5021-2019-65-5-10
- О состоянии здоровья детей города Екатеринбурга по результатам профилактических осмотров / ЛВ. Рожко-ва, СА. Царькова, ЕВ. Савельева, М.М. Aрхиповa, О.Ю. Севостьянова, Л.Р. Закирова // Российский педиатрический журнал. - 2020. - T. 1, № 2. - С. 25-30. DOI: 10.15690/rpj.v1i2.2090
- Рапопорт И.К., Сухарева Л.М. Особенности формирования нарушений системы пищеварения и обмена веществ у московских учащихся в процессе обучения в школе // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2018. -№ 8 (305). - С. 11-16. DOI: 10.35627/2219-5238/2018-305-8-11-16
- Баранов A.A., Aльбицкий B^. Состояние здоровья детей России, приоритеты его сохранения и укрепления // Казанский медицинский журнал. - 2018. - T. 99, № 4. - С. 698-705. DOI: 10.17816/KMJ2018-698
- Юркова A.A. Химическое загрязнение окружающей среды // Colloquium-journal. - 2021. - № 18 (105). - С. 9-12.
- Череватенко A.A. Экологические факторы риска для здоровья населения // Журнал фундаментальной медицины и биологии. - 2018. - № 3. - С. 39-45.
- Загрязнение атмосферного воздуха (воздуха вне помещений): Информационный бюллетень BOЗ [Электронный ресурс] // BOЗ. - 19 декабря 2022. - URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (дата обращения: 28.07.2023).
- Капранов СВ., Капранова T.Q Bлияние техногенных факторов среды жизнедеятельности на возникновение заболеваний органов пищеварения у детей и подростков // Bестник Bолгогрaдского государственного медицинского университета. - 2017. - № 3 (63). - С. 52-55. DOI: 10.19163/1994-9480-2017-3 (63) -52-55
- Сакиев К.З., Батырбекова Л.С. Bлияние факторов окружающей среды на состояние гепатобилиарной системы населения, проживающего в экологически неблагоприятных регионах // Медицина и экология. - 2015. - № 4. - С. 8-15.
- Шашель B.A. Эпидемиология заболеваний органов пищеварения у детей и подростков Краснодарского края // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2018. - T. 63, № 3. - С. 70-75. DOI: 10.21508/1027-4065-2018-63-3-70-75
- Клинические особенности и характер течения дисфункциональных расстройств билиарного тракта у детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях Краснодарского края / B.A. Шашель, BT. Назаретян, ГВ. Науменко, B.K Фирсова, С.Ю. Маталаева, Л.И. Мазуренко, T.O. Чёрная // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2023. - T. 1, № 1. - С. 73-81. DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-209-1-73-81
- Шеенкова МВ., Рушкевич О.П., Яцына KB. Особенности метаболической патологии печени в условиях воздействия промышленных аэрозолей // Гигиена и санитария. - 2021. - T. 100, № 9. - С. 943-946. DOI: 10.47470/00169900-2021-100-9-943-946
- Кольдибекова ЮВ., Землянова МА., Цинкер М.Ю. Оценка вероятности развития коморбидности заболеваний нервной системы и органов пищеварения у детей при сочетанном воздействии химических факторов и факторов образовательного процесса // Aнaлиз риска здоровью. - 2020. - № 3. - С. 100-108. DOI: 10.21668/health.risk/2020.3.12
- Зайцева KB., Землянова МА. Гигиеническая индикация последствий для здоровья при внешнесредовой экспозиции химических факторов: монография / под ред. Г.Г. Онищенко. - Пермь: Книжный формат, 2011. - 532 с.
- Соломай T.B., Семененко T.A., Блох A.K Распространённость антител к вирусу Эпштейна - Барр в разных возрастных группах населения Европы и Aзии: систематический обзор и метаанализ // Здравоохранение Российской Федерации. - 2021. - T. 65, № 3. - С. 276-286. DOI: 10.47470/0044-197X-2021-65-3-276-286
- Распространенность у детей заболеваний органов дыхания, сопряженных с герпетической инфекцией, в условиях аэрогенного воздействия химических веществ / О.Ю. Устинова, KB. Зайцева, O.A. Маклакова, С.Л. Baлинa // Здравоохранение Российской Федерации. - 2022. - T. 66, № 6. - С. 505-512. DOI: 10.47470/0044-197X-2022-66-6-505-512
- Значение герпесвирусов в этиологии ряда инфекционных и соматических заболеваний детей / T.K Рыбалки-на, KB. Каражас, ПА Савинков, Р.Е. Бошьян, М.Ю. Лысенкова, М.Н. Корниенко, KA. Bеселовский, Е.М. Бурмистров [и др.] // Детские инфекции. - 2017. - T. 16, № 3. - С. 10-19.
- Результаты многолетнего изучения герпесвирусной инфекции на кафедре инфекционных болезней у детей РНИМУ / O.B. Шамшева, Ф.С. Харламова, Н.Ю. Егорова, O.B. Молочкова, ЕВ. Новосад, ЕВ. Симонова, TM. Лебедева, KA. Гусева // Детские инфекции. - 2017. - T. 16, № 2. - С. 5-12. DOI: 10.22627/2072-8107-2017-16-2-5-12
- Смирнов A.B., Чуелов С.Б., Россина A^. Современное представление о гепатитах, вызванных вирусами семейства герпесов // Детские инфекции. - 2008. - T. 7, № 3. - С. 3-15.
- Bлияние вирусов герпеса на течение хронических заболеваний печени / Г.Г. ^толян, Л.Ю. Ильченко, И.Г Федоров, T.B. Кожанова, B.A. Морозов, К.К. Кюрегян, ГВ. Сторожаков, М.И. Михайлов // Aрхив внутренней медицины. -2013. - № 6 (14). - С. 18-24.
- Hepatitis caused by herpes viruses: a review / A. Noor, A. Panwala, F. Forouhar, G.Y. Wu // J. Dig. Dis. - 2018. -Vol. 19, № 8. - P. 446-455. DOI: 10.1111/1751-2980.12640
- Цитомегаловирусный гепатит у детей: современное состояние проблемы / Г.С. Карпович, AB. Шестаков, МА. Михайленко, Ю.С. Серова // Лечащий врач. - 2022. - № 1 (25). - С. 25-29. DOI: 10.51793/OS.2022.25.1.004
- Савилов Е.Д., Ильина СВ. Особенности инфекционной патологии детского населения в условиях техногенного загрязнения окружающей среды // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2012. - № 1 (62). - С. 58-63.
- Популяционные аспекты эпидемиологии герпесвирусных инфекций в крупном промышленном городе / T.A. Лг-лямова, И.М. Хаертынова, РТ. Нугманов, О.Ю. Князева // Практическая медицина. - 2017. - № 4 (105). - С. 56-62.