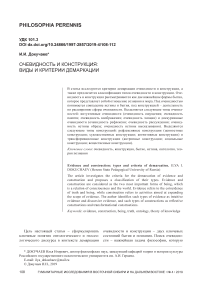Очевидность и конструкция: виды и критерии демаркации
Автор: Докучаев Илья Игоревич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются критерии демаркации очевидности и конструкции, а также предлагается классификация типов очевидности и конструкции. Очевидность и конструкция рассматриваются как две важнейшие формы бытия, которое представляет собой отношение сознания и мира. Под очевидностью понимается совпадение истины и бытия, под конструкцией - деятельность по расширению сферы очевидности. Выделяются следующие типы очевидностей: интуитивные очевидности (очевидность ощущения; очевидность памяти; очевидность воображения; очевидность эмоции) и дискурсивные очевидности (очевидность рефлексии; очевидность рассуждения; очевидность истины образа; очевидность истины высказывания). Выделяются следующие типы конструкций: рефлексивные конструкции (ценностные конструкции; художественные конструкции; когнитивные конструкции) и трансформационные конструкции (антропные конструкции; социальные конструкции; вещественные конструкции).
Очевидность, конструкция, бытие, истина, онтология, теория познания
Короткий адрес: https://sciup.org/170175785
IDR: 170175785 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-4/108-112
Текст научной статьи Очевидность и конструкция: виды и критерии демаркации
Цель настоящей статьи – сформулировать ключевые понятия онтологического и гносеологического дискурса в контексте демаркации очевидности и конструкции – двух ключевых состояний бытия и познания. Поиск очевидности – важнейшая задача философии, которую решали все крупнейшие метафизики, начиная с первых греческих школ и заканчивая современной аналитической философией. Поиск того, что такое бытие, подлинное бытие, истина о бытии – этот поиск был смыслом философии всегда. Что же противостояло бытию? Прежде всего, небытие. Однако о небытии невозможно что-либо говорить, следовательно, его нельзя выбрать в качестве альтернативы бытию или можно представить себе бытие как рубрику, для которой бытие и небытие выступают своеобразными режимами. Противоречие при этом не удается снять даже путем хитросплетений диалектики Платона или Гегеля [5; 3]. Аристотелевская оппозиция сущего в действительности и в возможности – логически более приемлемый ход, однако возможность оказывается только еще одним способом говорить о бытии, небытие остается и здесь закрытым для обсуждения [1].
Понятие конструкции, на мой взгляд, более адекватный способ говорить о формах бытия, которые оказываются с тем или иным дефектом. Конструкция – это не только ложь и не просто ложь. Конструкция – это способ расширить очевидность, структурировать ее, анализировать и синтезировать. Конструкция – это порядок бытия, его пассивный и активный синтез, это есть своего рода сознательная жизнь бытия. Очевидность же есть исходный и подлинный смысл бытия как данности сознанию. Бытие есть отношение между предметами, а сознание – способ этого отношения. Порядок и единство этого порядка, которые задают отношение между предметами, я называю сознанием, или «Я». О «Я» можно говорить двояко. Первый способ – это порядок бытия. А второй – это конкретный порядок, связанный с ролью в этом порядке воплощенного «Я». В первом случае «Я» синонимично всему объему реальности, во втором – только конкретной биографии воплощенного в собственном теле «Я». Между этими «Я» сложные отношения. Даже Фихте не смог описать эти отношения адекватно [6]. С одной стороны, второе «Я» зависит от первого, так как является его частью, но с другой стороны – все наоборот, так как реальность оказывается сконструированной биографией воплощенного «Я». «Я» оказывается и очевидной данностью собственной реальности, и сконструированным предметом.
Вместе с тем задача демаркации очевидности и конструкции была сформулирована только в XIX в. благодаря усилиям неокантианцев и феноменологов. Решение задачи заключается не в том, чтобы раз и навсегда раскрыть все формы очевидности и конструкции, а также понять критерии их различения, а в том, чтобы предложить исходные понятия для обсуждения и задать процесс обсуждения проблемы. В настоящей статье я предложу такие понятия и логику обсуждения исходя из гипотезы, согласно которой исходной очевидностью выступает бытие «Я», понимаемое как отношение между различными предметами этого бытия. Однако в ходе анализа содержания этой очевидности выяснится, что в значительной мере она сконструирована. Основные формы этой конструкции я и попытаюсь показать.
Под очевидностью я понимаю совпадение истины и бытия. Очевидность есть такое состояние бытия, которое устанавливается в результате переживания как подлинное или в результате сомнения как истинное. Первой формой очевидности оказывается подлинность. Подлинность устанавливается интуитивно, непосредственно, то есть в ходе переживания, рефлексия которого удостоверяет это переживание как подлинное, а не иллюзорное. Гегель в «Феноменологии духа» [3] показал, что такая очевидность оборачивается иллюзией, поскольку она расположена во временном потоке, который каждый момент настоящего превращает в прошлое, каждую подлинность – в иллюзию. Тем не менее, чем ближе наше ощущение к моменту настоящего, даже если он постоянно изменяется и его невозможно мыслить в рефлексии как таковой, тем не менее – близость к этому моменту наделяет переживание максимумом очевидности. Предметное содержание этого момента обладает наивысшим объемом свойств и непредсказуемости. Однако сомнительность бытия такой очевидности, устанавливаемая в рефлексии, заставляет говорить о том, что существует иная форма очевидности – подлинность рефлексии.
Рефлексивная очевидность стала ключевой темой философии благодаря радикальному сомнению Рене Декарта, который установил, что сомнение в существовании переживаемого мира невозможно устранить, однако сомнение в самом переживании, осуществляемое в рефлексии, противоречиво [2]. Невозможно сомневаться в сомнении, поскольку самим фактом осуществления сомнения я доказываю его несомненность. Очевидность непосредственности и предметного бытия ускользает в рефлексии, но сам способ данности этих предметов, или сознание, выступающие как ощущение, память, фантазия, иллюзия, эмоция, как серия свойств предмета, упорядоченная сознанием, то есть конструктивная деятельность сознания, синтезирующая или анализирующая свою предметность, активно или пассивно конституирующая свойства и бытие своей предметности, иначе говоря, само «Я» не устранимо временем и рефлексией и очевидно. Рефлексивная очевидность не является интуитивной, ее надо получить в результате логической процедуры.
Эта очевидность – самая прочная, но и она обладает своеобразными дефектами. Первое, что можно сказать о ней, это то, что она может быть подвергнута сомнению на том же основании, что и непосредственная очевидность. Ибо схваченное в рефлексии сознание неподлинно, поскольку представляет собой прошлый факт. Прошлое всегда лишено подлинности. Даже если предмет теперь не выдает себя за объективно существующий, а связан с сознанием, это – мертвое сознание. Живое же сознание – это то, которое отдает себе отчет в этом, и оно не может быть осознано без того, чтобы не умереть, чтобы не перестать быть очевидным, чтобы не стать прошлым. Даже установление тождества всех уровней рефлексии не может решить этой проблемы. А вторая проблема – бедность достигнутого результата. Полученная в рефлексии очевидность почти не имеет содержания. В этом порядке сознания почти ничего не открыть, кроме того, что он существует. Иными словами, порядок без упорядочиваемого мира – ничто. Эдмунд Гуссерль, осознавший это на склоне лет, попытался придать сознанию характер исторического становления, трансцендентальному бытию вернуть историческое содержание [4]. Это порождает множество противоречий, разрешение которых невозможно.
Наконец, еще одной формой очевидности является логическая очевидность. Это очевидность аксиом, которые не нуждаются в доказательстве, и выведенных из них благодаря таким же очевидным правилам вывода теорем. Математическая, геометрическая, и всякая иная аксиоматика представляет собой особый случай очевидности, сомнение в которой невозможно, и приводит к построению некорректных конструкций. Однако эта очевидность обладает совершенно иной природой, нежели первые две. Она не интуитивна, или в значительной мере не интуитивна, это дискурсивная очевидность.
Это очевидность абстракции, которую можно назвать еще и сконструированной очевидностью. Здесь конструкция срастается с очевидностью настолько, что сама становится очевидностью. Но ее конструкционный характер остается и требует соотнесения с интуитивно данной переживаемой реальностью, реальностью данности.
И тогда происходит сопоставление высказывания и переживания. Собственно говоря, такое сопоставление возможно не только в форме отношения высказывания и переживания, но также и в форме отношения памяти и переживания, фантазии и переживания. Но в этих последних двух случаях сопоставляются две формы интуитивной очевидности. А в первом случае – интуитивная и дискурсивная очевидность. Истина традиционно считается совпадением высказывания и бытия, то есть результатом особого рефлексивного акта, в котором непосредственно переживаемое положение дел, или реальность, сопоставляется с высказыванием о нем или его образом, а затем устанавливается соответствие или несоответствие высказывания (образа) и бытия. Таким образом, возникает ложное или истинное высказывание о бытии, ложный или истинный его образ. Очевидность может быть подлинной или иллюзорной, конструкция – корректной или некорректной. Совпадение конструкций и очевидностей истинными или ложными.
Можно подвести первые итоги. Мы выделили несколько форм очевидностей.
Интуитивные очевидности:
– очевидность ощущения;
– очевидность памяти;
– очевидность воображения;
– очевидность эмоции.
Дискурсивные очевидности:
– очевидность рефлексии;
– очевидность рассуждения;
– очевидность истины образа;
– очевидность истины высказывания.
Интуитивные очевидности могут быть подлинными, а могут быть иллюзорными. Причем некоторые из них иллюзорными быть не могут, а только подлинными. Иллюзией может оказаться только очевидность ощущения. Дискурсивные очевидности могут быть корректными и некорректными, как очевидность рассуждения, а могут быть истинными или ложными, как очевидность истины образа или истины высказывания. Очевидность рефлексии – особый случай. Она представляет собой своеобразный синтез интуиции и дискурса, и вряд ли у нее есть отрицательные варианты – вроде некорректных или иллюзорных. Она претендует на статус корректной и подлинной очевидности.
Теперь обрисуем характер и виды конструкций. В отличие от очевидного бытия сконструированное бытие есть результат активной деятельности «Я», который наталкивается на различные формы сопротивления и ограничивается ими, или не наталкивается и не ограничивается. Конструкция достраивает очевидность, придает ей характер упорядоченности и целостности, и поэтому она является неотъемлемым свойством самой очевидности, поэтому очевидность без конструкции не существует. Однако и конструкция соотнесена с очевидностью и отталкивается от нее. Даже в тех случаях, когда конструкция ничем не ограничивается, она оказывается в некоторой зависимости от очевидности, указывает на нее и сопоставляется с ней. Роль конструкций чрезвычайно высока уже в такой форме, как очевидность воображения. Фактически можно говорить, что воображение может выступать как чистая конструкция, а может как конструируемая очевидность. Речь идет, с одной стороны, о фантазии, а с другой – о предвосхищении разворачивающегося во времени предмета.
Конструкции я предлагаю различать прежде всего по тому, каким образом осуществляется конструирование – в мире образов и идей, или в мире вещей. В первом случае конструирование будет своеобразным удвоением мира очевидности, его рефлексией. Во втором случае конструирование будет трансформацией мира очевидности, вмешательством в ее ход. Рефлексивное конструирование осуществляется как познание, творчество и ценностная ориентация. Рефлексивное конструирование предполагает точное воспроизведение мира в непротиворечивой системе понятий и моделей, целостное воспроизведение мира в остраняю-щем его образе, моделирование мира в системе его идеалов, упорядоченных вокруг ключевого центра – смысла жизни. Трансформационное конструирование осуществляется как конструирование «Я» и «Другого», конструирование институтов взаимодействия «Я» и «Другого», конструирование вещей. Отношение «Я» к самому себе и к «Другому», упорядочивание этого отношения с помощью языка и социальных институтов, создание благоприятного веще- ственного окружения, включающего ландшафт, орудия труда, жилище, одежду, пищу, определяет различные формы трансформации предметной реальности, или очевидности.
Конструкции не могут быть ложными и истинными, корректными и некорректными, подлинными и иллюзорными. Все они являются либо целью, либо средством человеческой деятельности. Поэтому они могут быть эффективными и неэффективными. Эффективны они тогда, когда цель оказывается приемлемой, а средство позволяет достичь этой цели, и наоборот, если цель неприемлема, а средство не позволяет достичь цели, то такую цель и такое средство можно назвать неэффективными. Так, научное открытие, произведение искусства и человек чаще всего выступают целью, а ценность является целью всегда, тогда как вещи и социальные институты, как правило, выступают средствами.
Одним из интересных аспектов конструкции выступает такое явление, как само собой разумеющийся «жизненный мир» человека. В концепции Гуссерля этот мир представляет собой привычный порядок вещей, который заслоняет собой и существенно определяет любую очевидность. В ранней феноменологии Гуссерль всячески редуцирует «жизненный мир», однако затем говорит о нем как о важнейшем горизонте постижения очевидности. Структура жизненного мира непроста, он включает в себя такие формы рефлексивной конструкции, как ценности и знания. Это мировоззренческий фундамент любой конструкции, который преодолевается в специализированных формах ценностного бытия, таких как религия или идеология, и специализированных формах познания, таких как наука. Я не думаю, что специализированные формы ценностей и знаний, а также мир само собой разумеющихся ценностей и знаний следует выделять в отдельные формы конструкции, так как они представляют собой всего лишь вариации более существенных различий.
Таким образом, можно выделить следующие формы конструкции.
Рефлексивные конструкции:
– ценностные конструкции;
– художественные конструкции;
– когнитивные конструкции.
Трансформационные конструкции:
– антропные конструкции;
– социальные конструкции;
– вещественные конструкции.
Анализ форм очевидности и конструкции показывает, что это не просто список различных модификаций бытия, но своеобразная эйдетическая эманация одних форм из других. Фундаментом бытия оказывается очевидность, причем очевидность интуитивная, следовательно, именно «Я» в его глобальном значении представляет собой ключевой способ бытия, который разворачивается в системе различных ограничивающих и достраивающих его конструкций. Интуитивная очевидность дополняется дискурсивной очевидностью и различными конструкционными порядками, а затем происходит распад этой реальности большого «Я» на взаимоотношение биографического и воплощенного «Я» и различных «Других», распад, который преодолевается благодаря языку и социальным институтам. Сообщество таких воплощенных монад оказывается в состоянии создать различные миры конструкций, включая вещественный мир, мир художественных образов, вещей, знаний и ценностей.
Список литературы Очевидность и конструкция: виды и критерии демаркации
- Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1978.
- Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование бога и различие между человеческой душой и телом // Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1994. С. 3-72.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1992.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб: Наука, 1998.
- Платон. Теэтет; Софист // Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 192-346.
- Fichte, J.G., 2014. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre. In: Fichte, J.G., 2014. Wissenschaftslehre: Einleitung, Versuch einer neuen Darstellung, allgemeinen Um-risse. Berlin: Berliner Ausgabe, pp. 27-37.