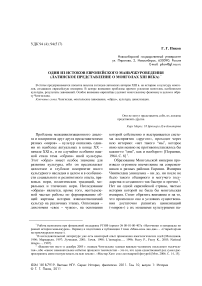Один из истоков европейского маньчжуроведения (латинское представление о монголах XIII века)
Автор: Пиков Геннадий Геннадиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка анализа взглядов латинских авторов XIII в. на историю и культуру монголов, создавших евразийскую империю. В центре внимания проблемы причин усиления монголов, особенности культуры, результаты завоеваний. Особое внимание европейцы уделяют монгольскому феномену в целом и образу Чингисхана.
Чингисхан, монгольские завоевания, "образ", культура, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14737367
IDR: 14737367 | УДК: 94
Текст научной статьи Один из истоков европейского маньчжуроведения (латинское представление о монголах XIII века)
Проблемы межцивилизационного диало га и восприятия друг друга представителями разных « миров » – культур оказались одни ми из наиболее актуальных в конце XX – начале XXI в ., и не случайно особенно важ ной стала тема « образа » иной культуры . Этот « образ » имеет особое значение для развития культуры , ибо он предполагает целостное и глубокое восприятие иного культурного наследия в целом и в особенно сти социального и религиозного опыта , пра вовых норм , политических традиций , мо ральных и этических норм . Исследование « образа » является , кроме того , неотъемле мой частью работы по формированию об щей картины истории взаимоотношений культур на различных этапах . Оппозиция – дихотомия « свое – чужое », на основании
Они не могут представлять себя , их должны представлять другие .
Карл Маркс. 18 Брюмера Луи-Бонапарта которой собственно и выстраивается система восприятия «другого», проходит через всю историю: «нет такого “мы”, которое явно или неявно не противопоставлялось бы каким-то “они”, как и наоборот» [Поршнев, 1964. С. 6] 1.
Образование Монгольской империи про извело огромное впечатление на современ ников в разных районах Евразии . Империя Чингисхана уникальна – ни до , ни после не было такого обширного и могучего госу дарства и созданного так быстро и прочно 2. Нет ни одной евразийской страны , частью истории которой не была бы монгольская империя . Стоит обратить внимание и на то , что произошло оно в условиях существова ния достаточно развитых цивилизаций (« миров ») с их мощными культурными па -
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ ( проект № 08-01-00-407 а « Источники и материалы по ранней истории маньчжуров ». Перевод и подготовка к публикации I тома « Мань - вэнь лао - дан » – « Старый архив на маньчжурском языке »).
радигмами . Это привело к тому , что уже в XIII в . появились специфические образы « Потрясателя Вселенной » ( восточно - азиат ский , монголо - сибирский , исламский , евро пейский ), которые до сих пор не могут « найти общего языка ».
Контакты с далеким Востоком , в том числе с Китаем , у Европы были и в древно сти , хотя и достаточно случайные [ Дебс , 1946]. По Шелковому пути римляне получа ли шелк из таинственной « страны серов » ( от лат . sericum « шелк ») [ Райт , 1988. С . 243], а до Китая доходили западные товары ( стекло , монеты , украшения ). Первыми ев ропейцами на Дальнем Востоке стали не - сториане , которые уже в VI в . пришли в Чанъань ( совр . Сиань ). Однако в первые ве ка II тыс . н . э . этим отношениям был придан новый импульс , и именно монгольские за воевания XIII в . облегчили контакты между Европой и Азией , которая основной своей частью входила в пределы практически од ного государства .
Среди всех источников информации по интересующей нас теме выделяется ряд со чинений . В них не просто упоминаются монголы или приводятся какие - то небезын тересные факты о них самих или о взаимо отношениях с ними , а делаются попытки создать своего рода энциклопедические своды 3. Это сочинения Джованни Плано дель Карпини (1182–1252) [ История монга - лов …, 1911; Путешествия …, 1957; Sinica…, 1930; Viaggio…, 1956; Христианский мир …, 2002; Plassmann, 1912; Кудрявцев , 2005; Хенниг , 1962; Rachewiltz, 1971; Рамм , 1959], Виллема ( Гильома ) де Рубрука ( ок . 1215 – ок . 1295) [ Путешествия …, 1957; Джованни дель Плано Карпини , 1997; The Mission…, 1990] 4, Роджера Бэкона ( ок . 1214 – после 1294) [ Бэкон , 2005; The Opus Majus, 1897–
1900; The Opus Majus…, 1928; Little, 1914; Пиков , 1998], Марко Поло (1254–1324) 5.
Европа вначале довольно равнодушно отнеслась к известию о появлении монголов, не видя в них отличия от других кочевников. В анналах Мельрозского монастыря за 1238 г. спокойно отмечается: «впервые прошел слух по земле нашей, что нечестивое полчище тартарейское многие земли разорило; истинно ли это, будущее покажет» [Матузова, 1979. С. 98; Пиков, 1995a]. О том, как плохо представляли европейцы, кто такие монголы, говорит и то, что автор «Хроники монастыря св. Эдмунда» Джон из Тэкстера предположил, что это «нечестивое» племя пришло с неких «островов» и затем «наводнило (собою) поверхность земли» 6. Составители «Анналов Тьюксберийского монастыря» продолжили традицию Беды Достопочтенного и монголов тоже отнесли к «сынам Измаиловым», «вышедшим из пещер (числом) до 30 миллионов и более» [Матузова, 1979. С. 106]. В Лаврентьевской летописи под 1224 г. значится: «Приде неслыханная рать безбожнии моавитяне, ре-комыи Татаръве» 7. Вопрос о татарах был даже специально поставлен на известном Лионском соборе 1245 г. наряду с другими острыми политическими проблемами [Па-шуто, 1948. С. 299]. Архиепископ из Руси Петр Акерович происхождение татар попытался понять традиционно, на основе Библии, и пересказывает их историю так: «по- следние из мадианитов, бежав от лица Гедеона до отдаленных частей востока, удалились в некую пустыню, которая называется Этрев. И было у них 12 вождей, главного среди которых звали Татаркан, от которого они нареклись тартарами. А от него произошел Чиркам, имевший троих сыновей. Имя перворожденного – Тессирикан, имя второго – Куртикан, имя третьего – Бата-таркан. Огни, хотя были окружены высочайшими и будто бы непроходимыми горами, однако, вызванные Курцевзой, внуком Сальбатина, повелителя одного из городов, который называется Орнак, вышли, а именно отец и трое его сыновей с великим множеством вооруженных воинов; и убив Саль-батина, и Орнак, город его, захватив, Курцевзу, внука его, преследовали по многим провинциям. А провинции, дававшие ему убежище, они опустошали; среди них в большей части опустошена Руссия. Прошло уже 26 лет. По смерти же отца три брата между собой разделились» [Матузова, 1979. С. 181]. Общее с Лаврентьевской летописью здесь то, что и мадианитяне, и моавитяне мстили за свои былые поражения [Библейская…, 1991. С. 445, 479].
Однако после того как Европа непосред ственно столкнулась с монголами , ситуация резко изменилась . Прежде всего , надо отме тить , что европейцев буквально потряс сам приход безвестных кочевников в глубь хри стианского « мира ». Геравзий Кентерберий ский в « Деяниях королей » (1240) писал о том , что « бесчисленное множество варва ров , нахлынув с востока , все королевства , вплоть до Венгрии и Руси , невзирая ни на образ жизни , ни на вероисповедание , без различия уничтожило . Они татарами зовут ся » [ Матузова , 1979. С . 104]. Хронист Мат вей Парижский сообщает , что на время пре рвалась торговля Англии с континентом [ Там же . С . 12, 185]. В Германии даже воз никла молитва : « Господи , избави нас от ярости татар ». Во всех городах Европы , служили молебны об отвращении страшной опасности 8.
В Европе отношение к монголам было сложным еще и потому , что континент со хранил свободу и реагировал на пришельцев не столько эмоционально , сколько логиче ски , обращая внимание на место этих собы тий в « священной истории », т . е . их связь с общецивилизационной парадигмой . Впер вые , пожалуй , была сделана попытка уви деть события как факт общечеловеческой или « всемирной » истории . Встреча двух ци вилизаций 9 всегда порождает необходи мость , осмысляя неожиданное появление « чужих », связать их со своей собственной историей , найти им « нишу » в освящен ной традициями и религией цепочке значи мых событий .
К тому же надо учитывать еще одну осо бенность истории Европы – она практиче ски не знала серьезных военных ударов из вне и опустошительных вторжений , но на протяжении всей своей истории испытывала очень сильную культурно - информационную осаду . Мусульманская культура представи ла оригинальную трактовку характерных для христианского мира греко - римских « ан тичных » представлений и иудео - христиан ской религиозной традиции , что неодно кратно резко усиливало « еретические » на строения внутри европейской культуры . Монголы , этот грязный , нечистоплотный народ (gens immunda), с точки зрения хри стиан , смогли в одночасье сделать то , чего европейцы не могли добиться в течение ты сячелетия , а именно подчинить себе всю Азию . Сделали они это с помощью силы , а не « слова », ибо « культуры » европейцы у кочевников вообще и у монголов в частно сти не видели .
Здесь сказывалась присущая изначально оседлым народам неприязнь по отношению к людям, экономика которых основывается на скотоводстве. История изучения кочевников проходила через многочисленные мировоззренческие и идеологические «фильтры» оседлых цивилизаций. Практически все исследователи подчеркивали несоответствие кочевников всем мыслимым критериям цивилизованности. Пожалуй, впервые европейцы столкнулись с кочевниками как особыми народами во времена Великого пере- щие отрубленные человеческие ноги и руки. Над костром, на вертеле – человеческое тело.
селения народов , которое охватило всю Ев разию в I тыс . н . э . Поскольку восточные племена находились на стадии переселения , их общества были предельно милитаризова ны и шли на любые средства ради захвата добычи и территорий . Неудивительно , что уже тогда сложилось достаточно стереотип ное представление о кочевниках как разру шителях культуры . Политоним « гунны » сменил « скифов ». Уже одно это приковало внимание европейцев к « глубинам » Азии . Это не Дальний Восток , где живут « серы », т . е . народы , изготавливающие шелковые ткани , а районы , куда « ступит нога » белого человека именно во времена монгольских завоеваний , те места , которые в последние десятилетия все чаще именуются « Внутрен ней Азией » ( Кашгария , Джунгария , Монго лия , Тибет ) [ Хазанов , 2008. С . 7]. Здесь проживали Гог и Магог , из этой « черной дыры », уверены будут авторы эпохи Возро ждения и Просвещения , выходят все « бан диты ». Это самый настоящий край света . Не случайно П . Карпини писал о монголах как о людях , по европейским меркам сущест вующих на грани выживания . Но там же , как прекрасно узнали в Средние века , суще ствовали и могущественная Циньская импе рия , где правил Циньши хуанди , и « Катай », правителем которого был Великий хан . Это пугало средневековую Европу , еще не очень четко понимающую , чего ждать от заислам - ской Азии – военного удара или культурной атаки .
Любопытно , что появление татар в Евро пе было воспринято в традиционном духе как естественное и неизбежное наказание за « грехи мира » , но под последними понима лись уже те кризисные явления , которые связаны были не с абстрактными грехами , а с вполне конкретными негативными явле ниями в общественной и хозяйственной жизни Европы XIII в . [ Матузова , 1979. С . 182].
Монголы не казались пока европейцам опасными по разным причинам. Во-первых, монголы оказались в стороне от традиционной библейской альтернативы «люди, вошедшие в Завет – люди, не вошедшие в Завет». Под второй категорией в это время понимались «измаильтяне» или «агаряне», т. е. арабы, мусульмане. Во-вторых, они располагались все-таки далеко от границ христианского мира. И, наконец, в-третьих, они явно враждовали с арабами: европейцы надеялись, что враг врага вполне может стать другом.
На восприятие же европейцами монголов в целом повлиял целый ряд факторов . Особо следует подчеркнуть то , что анализ ведется теперь , как правило , с учетом развития эко номических , а не идеологических процес сов . Появление иноземцев для формирую щейся городской экономики казалось большей катастрофой , чем для « деревен ской » Европы VIII в . Потому Европа и ста рается просчитать все возможные варианты изменения внешнеполитического положе ния континента . К тому же принцип расчета и выгоды уже выходит на первое место в европейской системе ценностей . От рацио нального ведения хозяйства происходил переход к рациональной организации госу дарства . Появлялись сложные органы управления и контроля , система налогов и государственного кредита , формировалась политика , взвешивающая все мыслимые факты и возможности , даже характеры политических деятелей , в ранг высокого ис кусства возводилась изворотливая диплома тия . Идет процесс перерастания средневеко вых народностей в нации , и уже не только и не столько на этнической , сколько на эко номической основе формируется нравствен но - политический принцип патриотизма .
Роджер Бэкон отказывается, по существу, от использования Библии в качестве единственного «ключа» к тайне происхождения «татар» и привлекает сведения античных и современных авторов. Он очень тщательно анализирует «бесхитростные и во многом наивные рассказы» Карпини и Рубрука о происхождение этого народа, который «теперь очень известен и попирает мир ногами своими», связывает с подвижками племен в Центральной Азии. Государственное устройство и состояние наук у татар Бэкон оценивает весьма высоко, предполагая, что по уровню своего развития они мало уступают европейцам, а в чем-то даже превосходят их, «ведь предводители там управляют народом с помощью прорицаний и наук, которые сообщают людям о будущем, или являются частями философии, как астрономия и наука об опыте, или магическими искусствами, которым предан и которыми пропитан весь восток» [Матузова, 1979. С. 216]. На страхи Европы он, отталкиваясь от рациональных доказательств, отвечает, что «тартарское нашествие еще не является признаком того, что грядет время пришествия Антихриста, но требуются и другие доказательства, дабы объяснить последствия» [Там же. С. 220]. Подробно описывает Бэкон и конфессиональную ситуацию, давая исчерпывающие для XIII в. сведения о религии и верованиях «татар» и других центрально-азиатских племен и народов, о различных христианских общинах и сектах в Азии, о религиозной политике монгольских правителей. Пытается он понять и причины возвышения тех или иных племен, то говоря о неожиданно возникающей «страсти к владычеству», то связывая это с численным ростом восточного населения и, как следствие того, борьбой за пастбища и угодья.
Таким образом , выход монголов на ми ровую арену , помимо всего прочего , на столько сильно повлиял на кругозор евро пейцев , что можно говорить о влиянии и этого фактора на начало процесса склады вания новой географической науки . Ее ос нователем будет справедливо считать Род жера Бэкона .
Стоит отметить , что первая реакция ев ропейцев на монголов по - своему замеча тельна , ибо свидетельствует о понимании европейцами многовековой связи внешних вызовов с внутренними кризисами и виде нии системности охватившего весь « христи анский мир » кризиса . Примеры такого по нимания можно найти уже в Библии , где четко проводится мысль о том , что враг не придет в ту страну , которая « сильна », где есть « вера », т . е . есть этническая и культур ная сплоченность [ Пиков , 2008]. Эта биб лейская методология , как показывают ла тинские сочинения , все еще активно использовалась . Именно она помогла в VIII в . решить « загадку » арабов Беде Дос топочтенному , который нашел для них « нишу » в « священной истории » и признал их « своими ». К тому же арабы не были для европейцев в полном смысле кочевниками . Здесь впервые , пожалуй , цивилизационная парадигма была применена к кочевникам .
Активно используется вначале Библия для идентификации монголов с каким-либо из известных уже этносов. Неудивительно, что первыми в этом ряду стали Гог и Магог [Райт, 1988. С. 74]. В «Великой хронике» Матвея Парижского под 1240 г. впервые прямо указывается, что это были татары, народ, внезапно появившийся из местности, окруженной горами, пробившийся сквозь камни. Именно поэтому они и были названы Тартарами (выходцами из Тартара). На его карте Палестины даже обозначены пресловутые стены, за которыми некогда томились Гог и Магог, а в пояснительной ремарке указывается, что оттуда же прибыли и татары [Там же. С. 240, 256–257].
При чтении латинских текстов XIII в . сразу бросаются в глаза довольно напря женные отношения между новой империей и Европой . Плано Карпини , в частности , удивляет наличие , кроме языческих , буд дийских храмов , двух мечетей и одной хри стианской ( несторианской ) церкви . Он не понимает причины необъяснимой и непри емлемой для средневековых католиков ве ротерпимости монголов . Для европейца это свидетельство существования « язычества », с которым христиане боролись практически всю свою историю . Это понятие в Европе воспринимается сложно . С одной стороны , язычество , на Руси известное как « поганст во », это не просто многобожие , а , по сути , ситуация столкновения многих культур (« столпотворение богов ») как информаци онного хаоса . Она периодически возникает в истории любой цивилизации и восприни мается в конечном итоге как нетерпимый кризис и проявление антицивилизационного развития . Веротерпимость монголов и ста нет для европейцев главным свидетельством отсутствия у них самой возможности разви тия по цивилизационному варианту . Кру шение монгольской империи , с точки зре ния латинских авторов , является решающим доказательством искусственности ( не боже ственного происхождения ) ее . Отсюда во многом также идет представление о прин ципиальном отличии кочевников от оседлых народов , восприятие их как бандитов и ква зиобщество .
Монголы нарушают, прежде всего, уголовное право, а ведь оно со времен Моисея – одна из основ цивилизации. Монголы обрушились на святые места (Иерусалим, Индия, Азию, где появился человек и находился «рай»). Это подчеркивало их необычность – никто еще, особенно после принятия христианства, не нападал на эти места. Европа видит в Чингисхане не просто «чужого», а «иного», что, помимо всего прочего, говорит и о том, что христианская цивилизационная парадигма не дает возможности его понять. Перед культурой фактически ставится задача изучать его так, как мы бы стали изучать инопланетянина. И она это делает, свидетельством чему страницы самых различных посвященных Чингисхану текстов. Такое изучение в определенном смысле можно уподобить изучению раннехристианской Европой фигуры Иисуса Христа, только если Христа изучали как «бога», то здесь налицо всестороннее исследование именно человеческой личности. Пожалуй, нигде, кроме Европы, это больше не делалось в то время.
Европа проводит доскональный и все сторонний анализ монгольского феномена , причем , стоит заметить , что христианский мир заботит не столько военная опасность , сколько цивилизационная . По сути , монго лы особо опасны были лишь « плечам » Евразии – Европе и Китаю , ибо там сущест вовали специфические парадигмы , ориенти рованные на ограниченное пространство . Мусульманский « куст » имел все возможно сти ассимилировать пришельцев , что и про изошло в итоге .
Европейцы начинают писать свои труды тогда , когда завоевания фактически уже прекратились и установилась новая геопо литическая ситуация . Молодая католическая цивилизация потерпела поражение в стрем лении установить свое господство хотя бы даже над аврамическим пространством , ко торое осталось под властью мусульман . К тому же оба традиционных мира , христи анский и мусульманский , должны прино равливаться к новым азиатским « хозяе вам » – тюркам и монголам . Католическая « революция » победила лишь в рамках евро пейского субконтинента , и в результате Ев ропа вынуждена отказаться от экстенсивно го (« феодального ») варианта развития и пытается выбрать новые методы и средства решения комплекса проблем переходного периода .
Если учесть формирующиеся в это время в Европе возрожденческие представления с их культом «героя», то само по себе появление такой фигуры, как Чингисхан 10, было серьезным информационным вызовом для европейской культуры. Еще один парадокс заключался в том, что, пожалуй, впервые Европа признала героем выходца не из средиземноморской или христианской зон. Этому способствовал и характер личности Чингисхана, масштаб его завоеваний, грандиозность планов. Вряд ли европейцы знали его знаменитое высказывание «у нас всюду враг от заката солнца и до восхода его» («Сокровенное сказание»), но монголы после его смерти завоевание всего известного мира воспринимали как его прямой завет. Упоминают латинские авторы и метод ведения войны Чингисхана, который, по сути, сводился к беспредельной жестокости и отрицанию всяческих правил. Как любил повторять Чингисхан, «мертвые не бунтуют». Понятно, что общее число жертв монгольских войн изрядно преувеличено хронистами, однако можно предполагать, что оно достигало все же нескольких миллионов человек.
Уже в XIII в. произведен отбор сочинений о Чингисхане. Разумеется, это делалось и в Китае, Монголии, мусульманских государствах, т. е. по всему периметру и, конечно же, в центре Монгольской империи. Общее, что объединяет все эти сочинения – образ великого завоевателя с акцентом на организаторских способностях, психологических особенностях, биографии, борьбе. Результатом этого станут достаточно отличающиеся друг от друга образы великого монгола. Он становится безусловным героем тюрко-монгольской зоны, ибо возвеличил населяющие ее народы. Китайцы признают своей созданную благодаря его завоеваниям династию Юань. Мусульмане, особенно три великих историка (Джувейни, Ибн аль Асир, Рашид ад-дин), считают, что он многое сделал для объединения тюркского мира. В этом плане мусульманско-среднеазиатская и восточноазиатская традиции достаточно одинаково превозносят Чингисхана, но спор о нем практически превращается в межцивилизационный. На Руси образ Чингисхана отри- потом чжурчженьский Агуда, но их со временем, естественно, затмит «дикий» и «необузданный» Чингисхан. А причину успехов «героя Чингиса», как и его предшественников, напуганный оседлый мир увидит в том, что он «ни Бога…не знал, ни человеков правил / Едину силу лишь в закон всего поставил» [Каменский. Л. 356].
цательный , ведь он известен своими « звер ствами » и создал грабительскую державу , а « монголо - татарское иго » существенно за медлило социально - экономическое и куль турное развитие славян .
И только в Европе складывается особая ситуация . Герои , использующие силу и хитрость ( Геракл ), здесь уже не в почете , над рыцарством с его культом физической силы смеются ( Дон Кихот ). К XIII в . побеждает идея надъестественного и внеми - рового Бога и монгольское понимание Неба как части мира кажется « варварской » глу постью . Все это влияет и на отношение к Чингисхану . Европейцы охотно берут ин формацию латинских путшественников , но в конечном итоге образ Завоевателя в евро пейском сознании проделал путь от Героя до Бандита . Восторги от успехов монголов , особенно когда они наносили удары по старинным врагам Европы , славянам и му сульманам , сменились глубоким разочаро ванием , когда католики поняли , что в Евразии сложилась совершенно новая гео политическая ситуация и ничего хорошего Европе она не сулит .
Стоит отметить разнообразие жанров и ракурсов , используемых для описания мон голов . Это отчеты послов ( Рубрук , Карпи - ни ), схоластические « суммы » ( Р . Бэкон ) и даже своеобразный « роман » (« Книга » М . Поло ) 11. Идет очень сложное сканирова ние истории и географии новой империи . Этим интересуются европейские правители ( король , папа ) и даже простые люди , если вспомнить необычайную популярность « за писок » итальянца М . Поло .
Это означает, что новый мир интересует всю культуру, он ей непонятен, и она предпринимает мощный интеллектуальный штурм нового явления и пытается, хотя это и не очень получается, составить некий энциклопедический очерк о нем. Папского посла П. Карпини интересуют прежде все- го церковно-религиозные проблемы королевского посла Г. Рубрука – политические нюансы, полуторговца-полулазутчика [Юрченко, 2007 («Экспозиция»)], М. Поло – экономические проблемы. Вот три «ответа», которые как бы синтезируют информацию по данным аспектам. Основа для этого уже была – работа с «возрождаемой» античностью и ее иной трактовкой мусульманами, соответственно идейная борьба с исламом и, разумеется, ориентация на новые ценности – рационализм, демократию, гуманизм, индивидуализм, экономические интересы.
Распад монгольской державы , стабили зация геополитической ситуации в Азии и сложность проблем , вставших перед Евро пой в эпоху Возрождения – Реформации , переведет проблему монголов в разряд вто ростепенных и многие посвященные им тек сты будут забыты надолго . И все же останутся , в том или ином смысле спрово цированные и монголами , проблемы , кото рые будут интересовать европейских мыс лителей в следующие столетия : 1) что такое культура и какова ее роль в развитии соци ального мира и 2) что такое кочевники . Монгольский мир , или даже более широко , кочевой мир не вписывался в средневеко вую картину мира , построенную на идеях и ценностях земледельцев . Эти « грязные » « варвары » не имели культуры в том пони мании , которое было во всех оседлых ми рах , но масштаб их удивительных деяний явно превосходил все , что до сих пор знали цивилизации . Аналогов этому феномену нет в Книге книг – Библии . Еще не работает ан тичная культура , и в частности любопытные историософские наблюдения Платона [ Пи ков , 1995 а ], а Библия как историко - геогра фический атлас уже буксует . Нужны иные аналитические формы , но их даст Просве щение , когда уже будет во многом иная па радигма , связанная не только с христианст вом , и когда будет существовать более сложное и в чем - то даже более объективное отношение к самим монголам и к создан ным в XIII в . текстам , тенденциозным и антикочевым .
Именно в XIII в. складываются основные имиджи монголов. Единый образ Чингисхана возможен в едином государстве, но монгольская империя распалась. Русь сравнивает их со своими «погаными». Уцелевшие кидани, потерявшие свою империю задолго до монголов, воспринимают их как своих потомков и надеются, что они не только избавят их от власти тунгусских чжурчжэней, но и помогут воссоздать Ляо. На кочевом и полукочевом Востоке его почитают с помощью буддизма и шаманизма как Предка, Основателя династии. По-разному воспринимали Чингисхана и его империю торговцы, которым объединение Евразии принесло немалые барыши, и крестьяне, поля которых уничтожались во время этого объединения. Европейские интеллектуалы не очень их жалуют, примером чему, прежде всего, язвительные замечания в их адрес Р. Бэкона. Огромно влияние исламского мира, который смог в итоге остановить кочевой смерч, но окончательно раскололся на субкультурные регионы. Все образы этого «куста» имели право на существование, хотя Чингисхан и стал своеобразным антиподом Мохаммеда, который принес «истину» для всех, а монгольский правитель един лишь как завоеватель и разрушитель (фигура воспринимавшаяся либо как вечный варвар-разрушитель, либо как появляющаяся в канун гибели мира). Коранический образ «посланника Аллаха» был призван показать, что все человечество может быть спасено в рамках созданных им культур и государств, а образ Чингисхана, даже разбросанный по монгольским, китайским, мусульманским и латинским сочинениям, работал на характерную для кризиса актуальную эсхатологию и демонстрировал в общем-то традиционный «бич Божий», призванный наказать людей за потерю ими «веры». Соответственно каждая из покоренных им территорий предъявляла ему свой культурный счет. Нужно учитывать и своеобразную «подсказку» Востока, который уже в ходе самих монгольских завоеваний стремился принизить их масштаб, последствия, свести образ завоевателя к «дикому кочевнику», благо такой имидж уже сложился на «плечах» Евразии, во многом на основе борьбы с хунну – гуннами.
Нужно учитывать и то, что в Европе на протяжении всей истории был накоплен богатейший опыт изучения истории вообще и истории «варваров» в частности, разработаны исторические, филологические, сравнительные методы, выработана определенная номенклатура понятий и исторических схем, которая до сих пор пользуется немалым успехом и в других цивилизациях. Этот строго научный подход вывел историю изучения кочевников на более высокий уровень анализа и синтеза и значительно усилил сложившиеся на Западе и Востоке историоло-гические стереотипы и штампы.
Нередко образ кочевника как разрушите ля культурных ценностей , делающего ак цент в своей культуре не на « общечеловече ских » ценностях , а почти исключительно на культе силы , использовался и во вполне ко рыстных целях . Так , образ могучего Вели кого Хана « Катая », сформированный с по мощью « Книги » М . Поло , дал основание Х . Колумбу и последующим конкистадорам возглавлять многочисленные и хорошо воо руженные военные отряды для « открытия » Азии , которая на деле оказалась новым ма териком . То , что такие названия , как « Ка тай » и « Индии » использовались « атланти ческими нациями » Европы вплоть до конца XVIII в ., вряд ли можно объяснить только их географическим « невежеством ».
Идейное противостояние кочевников и европейского мира прошло свою острую стадию не только потому , что монголы быстро ушли из Европы и их империя распалась , а потом и кочевники фактически были загнаны оседлыми мирами в своеоб разные « резервации ». Если тюрки для христиан представляли вполне реальную двойную опасность , осуществляя террито риальную экспансию и предъявляя претен зии на европейскую « античность » и иудео - христианско - мусульманскую традицию , то монголы стали для них всего лишь « урага ном », который пронесся над всей Евразией , но неожиданно появился и исчез .
Европейцы фактически не победили их парадигму , а вывели ее за скобки культуры , объявив создание империи результатом си лы , разбоя , разрушения , сатанинским деяни ем . На это повлияло и отрицание « средневе ковья » как периода господства « орд » варваров . Если мусульмане все же частично восприняли элементы культуры кочевников ( достаточно вспомнить широко распростра ненный в Сибири и Центральной Азии культ Чингисхана ), то два близких по своему устройству имперских общества ( европейское и китайское ) отрицали у кочевников наличие культуры в целом . Для китайцев кочевники были « извратителями » восточно - азиатской парадигмы , но латин ская Европа имела свои причины утвер ждать подобное .
Главным в культуре считались религия и язык . Для латинских авторов монголы « бес культурны », ибо у них « неразвитый » язык и отсутствует литература . Внешне монголы принципиальные антиинтеллектуалы , у них нет философских школ , буддизм или хри стианство они берут больше в практике , чем в теории . У них нет единой культуры , каж дое племя придерживается своих традиций . К тому же завоевания Чингисхана открыли в Монголию дорогу различным культурам , носители которых часто насильственно пе реселялись туда . В итоге часто монгольские « завоеватели » растворялись в разных зонах , а Монголия не стала политическим и куль турным центром всех зон , Чингисхан не стал культурным героем , а так и остался за воевателем .
Это не могло не повлиять на их оценку интеллектуалами , которые связаны с като лической парадигмой и « через нее » « прочи тывают » неизвестную доселе Европе куль туру . Вот поэтому - то монголов и не признают ни за другую культуру , ни за ересь , а видят в их обществе и представле ниях признаки антицивилизации . И это была серьезнейшая опасность для христиан ского мира , ибо воспринималась как ин формационный хаос .
Монголы же и не могли предпочитать одну какую - то культуру , ибо империя политэтнична и в ней налицо все еще ситуация обострения межэтнических проти воречий и соревнования известных мировых религий . Для реального объединения нового « мира » нужны были культурные деятели ( Моисей , Христос , Мохаммед ), а не военные вожди . Как прекрасно сказал помощник Чингисхана Елюй Чуцай , завоевать импе рию сидя на коне можно , но управлять ею сидя на коне нельзя .
Монголы придавали больше значения этносу . Если в Европе культурообразующим фактором была религия , то у монголов эту роль играл , по сути , этнос как « избранный народ ». Европа же уже выходила на региональный уровень , формировала « об щечеловеческий » подход и работала при этом с огромным материалом как по своей собственной истории , так и по истории иных мировых религий .
Отсутствие у монголов «культуры» (в понимании латинян) было связано и с тем, что империя представляла собой геополитическое ядро при слабом присутствии всех остальных компонентов «классической» цивилизации (торговля, достаточно жесткая и воинственная парадигма программа строительства и трансляции «мира», развитая экономика). Отсюда особое значение в империи приобретали властные отношения, а не экономические или культурные процессы.
Военную опасность со стороны монголов Европа тоже видела , но уже не в том , в чем она шла от германцев или гуннов . Эти народы громили в основном деревни и избегали городов и крепостей , а теперь им уже не настолько нужны продукты сель ского хозяйства или рабы , сколько средства для торговли и обмена ( не случайно именно город особенно испугался пришельцев ), ведь кочевники , как и оседлые народы , тоже выходили на новый экономический уровень и отсюда на новый этап отношений с оседлыми . Степь в это время воюет не столько с деревней , сколько с городом и его культурой . В этом смысле Европа для монголов был серьезным врагом , к тому же она принадлежала к другой цивилизаци онной зоне и в принципе не принимала кочевников и скотоводство . Можно сказать , что кочевники оставались на стадии тех представлений о « культуре », которые сформировались на базе первой формы производящей экономики ( земледелие и скотоводство ), а Европа ( в какой - то мере и Китай , хотя он для монголов все же « свой ») уже переходит к « цивилизации » 12. У като лической Европы , пожалуй , сама жесткая и непримиримая в христианском мире пара дигма и макисмально далекий от кочевни ков мир . И Европа и монголы используют идею избранности , но в Европе она осно вывается на формирующейся капиталисти ческой идеологии , а в Монголии на идее суперэтноса . Оба общества фактически пре тендуют на всю ойкумену . Если монголы предпринимают попытку захватить мир во енным путем , то католический мир широко рассылает по нему своих миссионеров .
Европейцы впервые столкнулись с неизвестными им кочевниками, своего рода «чистыми». До сих пор они имели дело с номадами или народами, находящимися на стадии переселения (венгры), военного марша (германцы), оседания (скифы, арабы, Румский султанат). Теперь же они быстро отметили особость монголов, т. е. уловили приход не просто чужих или «варваров», а «иных» – новых людей с новой ментальностью. Эти «пришельцы» фактически создавали новый миропорядок 13. В этом плане можно говорить о своеобразной евразийской революции, которая, естественно, своими составляющими имела не только этнические изменения, связанные с монголами, но и переход на капиталистический вариант развития, расселение европейцев за пределами материка. Складывался новый «Восток», и Европа начинает его не только посещать, но и изучать. Новое, аналогичное библейскому или римскому по степени понимания «знание» Востока в чем-то не сложилось до сих пор 14. Европейцы хорошо знали Восток персидский, египетский и арабский, но здесь фактически формируется тюрко-монгольский. Эти «иные» принесли не только иную ментальность, но и иную культуру, экономику, политическую систему. Этот Восток и более динамичен и менее предсказуем, ситуация там постоянно меняется. Чингисхана поддержали многие восточные народы, ибо войны решали разного рода накопившиеся проблемы, однако попытка реально объединить Евразию под эгидой кочевников была обречена на провал, их вариант в тех условиях был действительно нежизнеспособным. Все «миры» (цивилизации) в первой половине второго тысячелетия встали перед необходимостью бифуркации как скачка в иное политическое, социальное, экономическое и культурное состояние. И этот скачок будет происходить, но кочевники не могли это сделать, ибо достигли естественного предела своей цивилизации. Это был пик развития кочевой организации, максимум того, что она могла достигнуть. Ярким признаком этого является то, что кочевники переживают, как и все другие миры, недостаток территории (дальше нет возможности расширяться, и начинается «война миров») и начинают включать в свои крупные государственные образования оседлые земли. Кочевой мир как цивилизация должен был исчезнуть, и спасти его было уже невозможно. Оставалась только безумная попытка сделать шаг назад и «отомстить» оседлым народам, что и сделал Чингис и тем самым окончательно погубил кочевую Степь. Момент был удачным, удар сильным, но одного военного удара оказалось мало. Грабеж быстро истощил завоеванные территории. Не было объединяющей идеи. На территории Евразии сосуществовали, по сути, разные расы, и евразийская империя в те времена была просто невозможна.
« Сила » уступила « слову », и кочевники стали отходить под натиском оседлых миров , территории их обитания стали пре вращаться в резервации . Это было вполне логично . Если развитая земледельческая территория пытается зону номадной или кочевой экономики сделать своей перифе рией (« колонией »), то кочевые империи де лают наоборот . Обе зоны нуждаются друг в друге . Перспектива за оседлым вариантом , ибо кочевой вариант запрограммирован на хозяйственную экспансию и здесь не может быть перехода на торгово - промышленный и научно - технический вариант , который ста нет доминирующим на планете во второй половине второго тысячелетия .
Кочевники больше нуждаются в продук тах земледелия , чем оседлые народы в продуктах кочевого хозяйства . Поэтому оседлые страны стараются отгородиться « китайскими стенами » и « римскими вала ми » и тем самым свести контакты на уро вень лишь торговых . Только в классическое средневековье , когда наблюдается дефицит земли , начинается наступление не только на соседние миры , но и на свою собственную периферию .
Чингисхан к тому же решал проблемы Азии, но у Европы другие проблемы и она их решать станет в форме перехода к «капитализму», борьбы с «язычеством» и «варварством», начнется «Возрождение» как отрицание «варварства» и «средневековья». Новая цивилизация начнет разрабатывать новую культурную парадигму, связанную с переосмыслением идей Христа и активным использованием греко-римской куль- туры с акцентом на законе и индивидуализме. Начнется период «модернизации».
Необходимо заметить , что на всю исто рию и культуру кочевников , по сути , пере ворачивается ситуация XIII в ., когда они занимались почти исключительно войной , между тем к войне они прибегают тогда , когда не работают естественные социально экономические механизмы . Оседлые народы запоминают преимущественно военные удары и далеко не всегда « помнят » свою вину . Именно они все чаще воспринимают кочевников как « бандитов », « бродяг », « бес культурных », извратителей культуры . Ла тинские же авторы , описывая монгольское общество , в общем - то говорят об исключи тельности ситуации и пытаются понять причины того , что кочевники « сорвались » с места . Для них монголы лишь часть кочев ников , и дабы понять причины их поведе ния , евразийские авторы пытаются увидеть историю всех евразийских кочевников . Лю бопытно , что именно история кочевников придала мощный импульс формированию цивилизационного подхода . Можно сделать вывод , что уже на этом этапе , когда , собст венно , реально и существуют цивилизации , в том числе и кочевая , представители осед лых « миров » воспринимали их как особую « силу », отличая от примитивных народов и признавая за ними право на определенную территорию , экономику , обычаи и тради ции . С африканскими или сибирскими пле менами такого жесткого противостояния Европа или Китай не знали . По сути , это можно считать одним из редких в то время примеров цивилизационного противоборст ва . Несомненно , это одновременно и при знак складывания представления о всемир - ности истории , ибо кочевников видят везде и понимают не как региональную часть , а часть человечества в целом .
XIII–XIV вв. стали особым «швом» в евразийской истории, и именно кочевники сыграли ключевую роль в создании новой геополитической конструкции Азии. Этот особо ощутимый вклад кочевников практически до сих пор оценивается исключительно негативно, как разрушительный. Между тем передвижения кочевников являются всего лишь частью огромного евразийского, фактически «второго великого переселения народов». Для этой первой фазы складывания нового миропорядка характерны традиционные методы решения назревших про- блем (внешняя экспансия, переселения). Необходимо было снятие прежней «феодальной» структуры общества, которая уже изживала себя сама. Об этом свидетельствует широкое распространение по всей Евразии городов, становящихся не только политическими или военными центрами, но и центрами ремесла и торговли. В Европе происходит выделение так называемой «католической» зоны, отличающейся акцентом на развитии городской экономики, внешней торговли, «общественного полезного» научного знания и рационалистической философии. Азиатские цивилизации начинают экономическую переориентацию на океаны. Передвижения кочевников, в том числе и монгольские завоевания, оказались наиболее эффективным средством окончательного снятия остатков родоплеменной арматуры в Азии. Новые племена ведут свое происхождение уже не от некоего первопредка, а от героя времен монголов. В их названии часто встречается уже не слово «люди», а «народ» («хоро»). В итоге складывается новая, дошедшая до нас, этническая карта Евразии. В Европе наблюдается похожая картина, когда на смену прежним франкам, готам, кельтам и др. окончательно приходят французы, немцы, англичане, русские. Снята была насильственно и «героическая» феодальная верхушка, ориентированная на аграрную экономику и разбой. Налажены новые трансконтинентальные связи. Появилась новая культурная карта. Аврамическая зона окончательно превращается в исламскую. То, что начали в VII в. арабы, продолжили в X–XI вв. тюрки и завершили в этот период монголы. Именно монгольские завоевания стали основным механизмом снятия прежней модели в Азии («арабской»), а монголы выступили в своеобразной роли «агрессора». Под этим словом в данном случае стоит понимать не просто государство, которое совершает некую военную агрессию как нападение. В истории неоднократно бывали ситуации, когда отдельные народы и созданные ими государства играли особую роль в историческом процессе. Их действия в конечном итоге приводили к перекройке геополитической карты и, как следствие, к серьезным цивилизационным изменениям. Таковы были когда-то ассирийцы, персы, германцы, наполеоновская Франция, гитлеровский Рейх. Агрессор – своеобразный таран, но победу получают те, кто его победил и воспользовался результатами этой агрессии. Он наносит внешний удар, но подвергшаяся агрессии территория уже фактически «съедена» изнутри коррозией прежней модели.
Однако кочевники и , прежде всего , мон голы во всех этих процессах играли не про сто роль « дворников », но и участвовали в этническом , политическом и культурном структурировании пространства . Новым содержанием во многом характеризуются христианство ( католицизм , православие ) и ислам . Это уже не « деревенские », экс пансионистские религии , а « городские ». Особое значение приобретают такие фи гуры , как папа Григорий VII, Мартин Лютер , Чжу Си в Китае . Кочевники внесли свои универсалистские идеи в ислам . Запад в ответ на деяния Чингисхана , впоследствии на походы турок и мощное возвышение Руси стремительно корректирует свою па радигму . С XIII в . в Европе начинается общерегиональное Возрождение , которое углубило идущую культурную революцию . Ислам вступает в первое противостояние с православием . Все эти процессы оказа лись во многом связаны и с походами монголов и в чем - то исправляли сложив шуюся в их ходе ситуацию , « убирали » за Чингисханом .
В Евразии в это время наблюдается своего рода ситуация сообщающихся со судов , когда происходит « перетекание силы » от « франков » ( Священная Римская империя ) к монголам , а на территории ислама – переход « власти » от « арабов » к « тюркам ». « Медждуцарствием » в исламе воспользовались дальний Запад и дальний Восток , которые накинулись на исламские земли с обеих сторон ( Крестовые походы и монгольские завоевания ). Это говорит о том , что внутриазиатские районы имеют еще некоторое значение для развития Азии . Передел Среднего Востока стал тогдашней « мировой войной », которая шла в спе цифической форме , когда на первом месте были отдельные локальные сражения и войны и грабеж как самое эффективное средство решения своих проблем , дающий немедленные результаты . Кочевая цивили зация пускает многочисленные метастазы в самых разных оседлых « мирах », и понадо бится ряд столетий , чтобы окончательно ассимилировать кочевников .
Понятно , что цели у « агрессоров » уже довольно разные . Кочевники пытаются создать новый баланс сил под своим конт ролем , и для них это довесок к кочевой экономике . Для Европы уже характерны болезненные демографические проблемы , злободневной становится « проблема золо та » и крайне важно , пусть даже и насиль ственное , подключение к азиатским рынкам . Она вместе с территориальной экпансией практикует и экономическую , но , как писал еще К . Маркс , впереди завоевателей идут миссионеры .
Наступал критический момент разбега ния Запада и Востока , назревала евразий ская бифуркация . Евразия в это время резко регионализируется , идут дезинтеграцион ные процессы как результат сочетания феодальной дисперсии и уже капиталисти ческой регионализации . Становится понят ным , что свободное расширение всех миров ( христианского , исламского , восточно азиатского , кочевого ) уже невозможно и нужен иной алгоритм развития . Везде в Евразии сетуют также на появление « развратных » и « злых » народов [ Осипян , 2007. С . 136], что явно свидетельствует не только о серьезном внутреннем кризисе « миров », но и попытках решения комплекса проблем с помощью традиционного метода « исхода », т . е . либо переселения , либо захвата новых территорий . На этом фоне явно выделяются подходы Европы , которая переходит на интенсивный вариант разви тия , стимулируя развитие науки и промыш ленности , и монголов , по сути , пытающихся создать совершенно новую структуру мира вообще .
С этого момента Запад начинает « опе режать » Восток . Именно неудачная « фео дальная » составляющая азиатской экспан сии показала , что будущее не за « исходом », а за интенсивным вариантом , который для кочевников невозможен в принципе . Отсю да , кстати , и разные оценки деятельности и личности Чингисхана .
С XIII в. по всей Евразии разворачивается новая по характеру культурная революция в форме «возрождения» (европейские ренессансы, китайский ренессанс, средневосточное возрождение, кавказские и византийские ренессансы, «ренессансные явления» на Руси) и везде будет присутствовать некая антикочевая составляющая. Это не удивительно, ведь мощный выплеск «бес- словесной» кочевой массы, затопившей всю Азию, стал «вызовом» практически для всех оседлых цивилизаций. Надо было «навести порядок» после такого наводнения, и в этой деятельности явственно видна огромная и тяжелая работа по фильтрации не столько иной этнической массы, сколько по упорядочиванию достаточно бессистемно вброшенной идейно-культурной информации.
Стоит отметить еще одно обстоятельство. Возрождение, прежде всего, европейское традиционно исследовалось в качестве особого этапа развития общества, находящегося между феодализмом и капитализмом («по вертикали»). Исследования Н. И. Конрада [1972] и ряда других авторов поставили вопрос о существовании и восточных «ренес-сансов». В конечном итоге, можно говорить о «возрождении» как особенности развития культуры 15. Геополитическая и религиозно-культурная история Евразии середины II тыс. н. э. позволяет предположить, что в условиях сложнейшего кризиса буквально всех «миров» (восточно-азиатская, центрально-азиатская, средневосточная, славянская цивилизационные зоны) помимо традиционных методов решения проблем (войны, социальные движения, миграции и т. д.) везде идет обращение к «древности». Налицо многие признаки «ренессанса» не только в Европе или в оседлых «мирах» (Танское и Сунское возрождения в Китае, средневосточный ренессанс, «ренессансные явления» – выражение Н. И. Конрада – в Индии, Вьетнаме, на Руси), но и в кочевых сообществах 16. Везде резко повышается интерес к Человеку и человеческим «наукам» и «истине». Проблемным становится соотношение Неба и Человека и в кочевых империях (Ляо, Цзинь, Юань). Акцент на героизме и фигуре «героя» характерен не только для европейских гуманистов, но и для монгольских сказаний этого периода. Если европейские гуманисты разрабатывали основы теоретической политики, то кочевники и, прежде всего, именно монголы создавали шедевры практической политики. Историю любого евразийского «возрождения» сопровождают войны и социальные движения (Крестовые походы, Столетняя война, монгольские «ураганы», крестьянские войны). Огромную роль в этих войнах играют не столько численность или какое-либо новое оружие, сколько дипломатия, расцвет которой наблюдается как на Западе, так и на Востоке. Это время обращения к опыту «предков», интереса к «древности» («античности») и небывалого ее авторитета. Тринадцатый век – период максимального взлета религии во всей Евразии, особенно повышается ее значение во внешнеполитической сфере, ибо мироустроительная ее функция отходит на задний план (внутренние проблемы решают формирующиеся национальные государства), но в условиях апогея противостояния «миров» разворачиваются «религиозные войны» (Крестовые походы, конфликты внутри ислама, выполнение «воли Неба» Чингисханом). Если на Западе «возрождение» есть «воспоминание» опыта «античности», то у монголов налицо тоже своеобразная «революция назад» и эта «кочевая революция» преследует, по сути, ту же цель, что и западная – создание «великого» и «правильного» государства, выход на «магистральный путь развития всего человечества», переход к господству «новой истины».
Подводя итог , можно сказать , что латин ские авторы XIII в . создали средневековый образ Чингисхана . Он фактически стал ар хетипическим , базовым . Именно так пони мает монгольский феномен традиционное общество . Возрождение , Реформация и Просвещение лишь закрепили его , и в итоге окончательно сложилась доминирующая в развитых странах оценка , которая сущест вует до сих пор . И сегодня она является камнем преткновения между центрально азиатскими и сибирскими народами , – с од ной стороны и всем , по сути , остальным ми ром – с другой .
Чингисхан для Европы стал своего рода новым антиподом Христа . Формирующаяся католическая цивилизация делает особый акцент на фигуре Бога - Сына , именно он в это время снова « дает истину ». Чингисхана в Европе никогда не связывали с фигурой Антихриста , ведь он не пришел ни с другим « словом », ни с извращением уже известного
« слова ». Вместо этого предпочитает силу , разрушение , гнет , раздоры . Чингисхан не стал Антихристом , но его « разбой » воспри нимался как один из последних признаков наступления « субботы », т . е . близости « кон ца света » ( идея , предложенная еще в VIII в . Бедой Достопочтенным в связи с появлени ем арабов ).
Тринадцатый век не просто открыл ко чевников , он породил « тайну кочевников ». До сих пор о них судили по номадам и по тому сразу не могли понять и Чингисхана . Когда его и его воинство объявили « банди тами », « связь времен » восстановилась , и только в наше время эти события вновь ста ли восприниматься как проблемные и снова стала изучаться « тайна Чингисхана ». Тогда же решающий бой с кочевниками , закончив шийся внешне их поражением , спровоци ровал то , что именно Европа создала законченный образ кочевника как дикаря . Это был смертельный информационный удар по кочевникам , ибо они оказались окончательно выведены за пределы любой оседлой парадигмы , стали исторически не легитимны .
Моделирование « образа » может быть двоякое . В одном случае он формируется на основе собственной парадигмы и выявляет ся , таким образом , преимущественно то , что соответствует и не соответствует этой « ис тине ». Так , например , воспринимался в средневековой Европе ислам , который очень часто и называли « ересью ». Многие путешественники в Китай , и , прежде всего , Марко Поло , пытались найти черты своей культуры у монголов и восточно - азиатских « серов ». Этот жесткий вариант чаще всего создает образ « врага » или « друга ». Именно этот , возникающий первым , вариант был использован европейцами при анализе мон гольской истории и культуры . Даже Китай ими воспринимался как пример уродливой восточной деспотии , в которой проживали бесправные поданные и над ними осуществ лялся жесткий и тотальный контроль . Воз можно , здесь сказалось и влияние греческой культуры и ее географии , к которым боль шой интерес в тот период проявляет Европа . Это станет первым « образом » восточно азиатской цивилизации , обязательно при сутствующим в современной картине китай ского « мира ».
Следующий этап будет связан с «образом» Китая, созданным на основе анализа послемонгольского общества эпохи династии Мин (1368–1644). Там будет использоваться второй метод моделирования «образа». Естественная тяга людей к познанию иного мира через общение с ним дает некую «информацию к размышлению». Среди его творцов явно выделяется фигура иезуита Маттео Риччи (1552–1610), которому, по сути, было суждено последним из европейцев посетить доманьчжурский Китай. Его труды и взгляды фактически станут методологической основой европейского «образа Китая» в нововременной период, и именно через призму этого образа станет восприниматься история и Цинского Китая. Можно сказать, как раз отдаленность Китая и необычность его культуры стимулировали европейцев XVI в. к использованию именно этого варианта, что привело в последующие столетия к гораздо лучшему его знанию даже по сравнению со знанием своего исламского «соседа». Ко времени М. Риччи уже появлялись первые признаки таких критериев, как уровень культуры, просвещенность, прогресс, уровень развития урбанистической экономики, политическая мощь. Культуры будут различаться как «модели», связанные с тем или иным темпераментом, мироощущением, стереотипами поведения, о чем в свое время писали Ф. Ницше, О. Шпенглер. «Образ» – это «как бы своеобразный сгусток общественной психологии своего времени» [Ерофеев, 1973. С. 9]. Сформируется образ «просвещенной монархии» с ее формально-рациональным характером, созданной по универсальным законам бюрократического правления. В целом можно сказать, что Европа именно в это время будет корректировать энциклопедический образ «Катая», появившийся в первой половине II тыс. н. э. благодаря трудам латинских купцов и путешественников и сочинениям мусульманских авторов. Вместо «царства Великого Хана» появится имидж, по сути, собственно китайской империи. Здесь, безусловно, прослеживается влияние римской античности.
ONE OF SOURCES OF MANCHU STUDIES IN EUROPA (LATIN REPRESENTATION ABOUT MONGOLS OF XIII CENTURY)