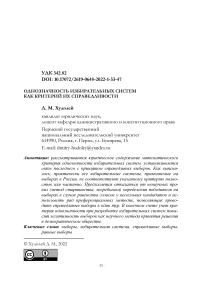Однозначность избирательных систем как критерий их справедливости
Автор: Худолей Д.М.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Конституционное, административное и финансовое право
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается юридическое содержание математического критерия однозначности избирательных систем, устанавливается связь последнего с принципом справедливых выборов. Как выяснилось, практически все избирательные системы, применяемые на выборах в России, не соответствуют указанному критерию полностью или частично. Предлагается отказаться от ненаучных правил (метод старшинства, жеребьевка) определения победителя на выборах в случае равенства голосов у нескольких кандидатов и использовать ряд преференциальных методик, позволяющих проводить справедливые выборы в один тур. В конечном счете учет критерия однозначности при разработке избирательных систем повысит легитимность выборов как научного метода принятия решения в демократическом обществе.
Выборы, избирательная система, справедливые выборы, равные выборы
Короткий адрес: https://sciup.org/147235707
IDR: 147235707 | УДК: 342.82 | DOI: 10.17072/2619-0648-2022-1-33-47
Текст научной статьи Однозначность избирательных систем как критерий их справедливости
С ледует констатировать, что, к сожалению, критерий однозначности, или результативности (resolvability), избирательных систем остается практически не изученным в отечественной науке. Данный вопрос имеет отношение не только к математическим наукам, но и к гуманитарным, поскольку названный критерий является одним из критериев оценки избирательных систем в рамках теории общественного выбора как элемента конституционной экономики.
Одним из первых критерий однозначности предложил английский экономист К. Мэй в 1952 г. Он доказал, что единственным научным и, следовательно, справедливым методом принятия решений в ситуации общественного выбора является метод большинства. Отметим, что в английском и во многих других современных европейских языках слово «большинство» ( англ. majority) означает абсолютное большинство (то есть превосходящее половину, 50 % + 1 голос). Термин «относительное большинство» в зарубежных странах не используется по причине своего алогизма: оно, по сути, является меньшинством. К сожалению, в отечественной науке зачастую происходит подмена понятий и использование категории «относительное большинство» допускается даже в текстах законов.
Мэй предложил четыре аксиоматических критерия оценки справедливости тех или иных способов принятия решений: однозначность, анонимность, нейтральность и монотонность. Таким образом, он не стал доказывать значимость этих критериев, указав на их логичность и соответствие интуитивному представлению о справедливости1. Возможно, для математика такое суждение допустимо, однако в данной работе оно нуждается в дополнительном доказательстве.
Однозначность, по мнению Мэя, это способность той или иной методики приводить лишь к одному результату. Анонимность – равенство избирателей (если избиратели поменяются друг с другом своими бюллетенями, то результат не должен измениться). Нейтральность – равенство кандидатов (если кандидаты поменяются друг с другом своими голосами, то результат должен измениться). Монотонность – пропорциональность (при увеличении числа своих голосов кандидат, ранее признанный победителем, не должен проиграть).
Даже поверхностный взгляд на эти математические критерии приводит нас к выводу о неразрывной связи юридических понятий «справедливость» и «равенство». Без юридического равенства кандидатов и избирателей немыслимы справедливые выборы, то есть подлинные выборы, в которых официальный результат соответствует подлинной воле избирателей. Выборы по правилу большинства этим критериям соответствуют. С одним «но»: выборы должны проходить между двумя кандидатами при нечетном числе избирателей. При четном числе избирателей возможна ничья, хотя и в этом случае какой-то определенный результат все же достигается. Поэтому Мэй говорит об однозначности в целом, а не в строгом ее понимании.
Все иные методы принятия решений: жребий, метод диктатора, метод старшинства или какие-то несуразные методики вроде правила меньшинства, нечетности, алфавита и пр. – не отвечают этим критериям в полной мере.
Так, метод диктатора (решение принимает какой-то один гражданин) не соответствует правилу анонимности в учете голосов граждан. Методы старшинства (побеждает наиболее старший гражданин) или алфавита (побеждает гражданин, чье имя в порядке алфавита занимает первое место) не соответствуют критерию нейтральности учета кандидатов. Метод меньшинства (побеждает кандидат с наименьшим числом голосов) противоречит правилу монотонности и поэтому несправедлив.
Метод жребия также немонотонен. Слепой жребий сегодня объявляет тебя победителем, но совсем не обязательно призна́ет победителем завтра, даже если количество поддерживающих тебя граждан возрастет. Отметим, что подобный порядок применялся в Древней Греции, где переизбрание на новый срок в порядке жребия не допускалось. Вряд ли сто́ ит этот метод считать идеальным, с научной точки зрения он заметно уступает правилу абсолютного большинства. Неудивительно, что в современном мире жребий применяется крайне редко. В основном к нему прибегают для повышения правовой культуры среди обычных граждан, на которых возлагают какие-то общественные обязанности (отбор присяжных заседателей, например), но не более того. Сомневаемся, что разумный человек согласится с тем, что в ситуации, когда мнения членов той же коллегии присяжных разделились, необходимо выносить вердикт подбрасыванием монетки.
Правило нечетности (побеждает кандидат с нечетным числом голосов) не только немонотонно, но и неоднозначно. Последнее наиболее интересно. Действительно, нелогичное правило нечетности устанавливает равные возможности для избирателей и кандидатов. Но оно не исключает признания ничейного результата или объявления всех кандидатов проигравшими. Причем такая ситуация может быть при четном числе избирателей. Например, если кандидат A получил на выборах 17 голосов, а кандидат B – 13, то мы должны их обоих признать победителями (ничейный результат). Теперь мы несколько изменим итоги голосования на следующие: кандидат A – 18 голосов, кандидат B – 12. Оба кандидата проиграли (результата нет вообще).
Таким образом, Мэй в своей теореме говорит о двух видах однозначности: строгой и нестрогой. По его мнению, необходимо соблюдать правило нестрогой однозначности (ничейный результат, то есть признание победителем сразу двух или более кандидатов в одномандатном округе, допусти́м).
Мы не можем с этим согласиться. В математике ничья – исход игры, который возможен при объявлении всех участников либо победителями, либо проигравшими. Очевидно, что объявление всех кандидатов проигравшими (неизбранными) мало чем отличается от ничьей в шахматах – все равно нет победителя.
Для избирательной системы, в отличие от большинства игр (футбол, хоккей, шахматы и пр.), ничейный результат недопустим. Этот вывод имеет практическое значение. Действительно, нередко математики рассматривают выборы как некую игру между кандидатами и избирателями, которая может приводить к ничейному результату. Однако юристы и политологи считают иначе: метод принятия решений, например выборы, должен приводить к какому-то результату, в противном случае он порочит саму идею данной методики. В отличие от игры, лишенной какой-либо цели, процесс принятия решения в общественном выборе этой целью наделен, и недостижение ее чревато негативными последствиями вплоть до революции.
Данный вывод применим и ко всем остальным методам принятия решений, в том числе и к престолонаследию в монархических государствах.
Так, салический метод наследования исключает женскую линию из числа наследников. Например, в Японии дочери императора, а равно и их потомки исключены из числа наследников. Следовательно, даже если у дочери императора родится сын (внук императора), он все равно будет не вправе претендовать на престол. Такая система чревата тем, что династические линии юридически могут быть исчерпаны и при наличии живых родственников мужского пола, что, скорее всего, приведет к гражданской войне за освободившийся трон (ярчайший пример – Смутное время в России). Отметим, что данная система престолонаследия в современном мире практически не используется, в том числе и по причине ее неоднозначности.
Действительно, какой смысл проводить выборы или передавать власть по наследству, если этот порядок изначально имеет дефекты? Общество вряд ли станет пользоваться методом принятия решений, который не обладает самодостаточностью. Оно не призна́ ет такой метод легитимным, то есть должным, необходимым и в конечном счете справедливым .
Но даже если такой метод будет применяться, ничейный результат вряд ли получит признание. Не исключено, что для его недопущения будут приняты дополнительные правила. То есть фактически произойдет подмена правил игры во время самой игры, что также недопустимо. В этой ситуации будут нарушены иные критерии, предложенные Мэем: анонимность, нейтральность и монотонность.
Так, в Российской Федерации, как и во Франции, Великобритании, ФРГ, не допускается признание двух или более кандидатов избранными в одномандатном округе при условии проведения выборов по системе относительного большинства2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части 2 статьи 70 содержит исчерпывающий перечень оснований для признания выборов несостоявшимися, а в части 1 статьи 71 допускает возможность проведения повторного голосования в случаях, когда никто из кандидатов не получил необходимое для избрания число голосов, при условии соответствующего разрешения законом.
Таким образом, мандат все равно должен получить только один из кандидатов, проведение в подобных случаях повторных выборов невозможно. Причем для разрешения данной спорной ситуации необязательно организовывать повторное голосование, допустимо использование жеребьевки или правила старшинства в том или ином виде (например, на выборах депутатов Государственной Думы отдают мандат кандидату, который был зарегистрирован ранее). Практически во всех субъектах РФ такое модернизированное правило старшинства установлено при проведении региональных и/или местных выборов.
Как мы уже говорили выше, эти методики изначально несправедливы, поскольку не соответствуют критерию нейтральности, или, говоря юридическим языком, равенства кандидатов.
Отношение судебной практики к учету времени регистрации кандидата неоднозначное. Поясним.
В Определении Верховного Суда РФ от 19 мая 1998 г. по делу № 47-Г98-1 содержится вывод, что учет времени регистрации избирателя нарушает принцип равенства кандидатов3.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 12 ноября 2008 г. № 1050-О-О «О прекращении производства по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 59 закона Калининградской области “О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления Калининградской области” в связи с жалобой гражданина В. В. Худенко»4, напротив, сформулировал правовую позицию о допустимости признания момента регистрации в качестве основания для избрания. В рассматриваемом деле гражданин Худенко подал документы на регистрацию раньше своих конкурентов, однако рассмотрены они были позже, и, получив равное наибольшее число голосов с другим кандидатом на местных выборах, он был признан проигравшим. Отметим, что законодатель Калининградской области до рассмотрения дела Конституционным судом изменил норму права, установив в качестве основания не момент регистрации, а момент подачи заявления и таким образом лишив окружную избирательную комиссию права (пусть даже теоретически) влиять на избрание кандидата. Сам Конституционный Суд РФ положительно отнесся к такой новелле законодательства5.
Признавая очевидную логику в такой позиции, мы, однако, настаиваем на недопущении использования случайного фактора (момент подачи заявле-
_____________ КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ния тоже случаен и не свидетельствует о большей легитимности указанного кандидата в борьбе за мандат).
Приведем еще пример. На выборах в представительный орган местного самоуправления Прионежского района Республики Карелия кандидат Мазур набрал столько же голосов, сколько и его главный конкурент. Однако он не был признан победителем, так как зарегистрировался пусть и в один день со своим конкурентом, но позже... на девять минут! Отметим, что Мазур, находясь в помещении территориально-избирательной комиссии перед подачей заявления, из рыцарских побуждений пропустил вперед своего конкурента – кандидата-женщину, которая в итоге и была признана победителем. После этого Мазур обратился в Конституционный суд Республики Карелия. Суд, рассмотрев дело, указал, что оспариваемые положения регионального закона создали кандидату, зарегистрированному ранее, необоснованные преимущества перед другими. Действительно, кандидат-конкурент мог находиться в командировке, на излечении в больнице, и эти уважительные причины могли объяснить его задержку с передачей документов на регистрацию. Результаты выборов в этом случае оказались зависимы не от воли избирателей, а от обстоятельств, не отвечающих требованиям юридического равенства и справедливости. Суд посчитал нужным проведение повторного голосования между кандидатами, набравшими одинаковое наибольшее число голосов в первом туре (п. 3 мотивировочной части постановления Конституционного суда Республики Карелия от 12 марта 2003 г.)6.
К сожалению, в остальных делах судьи сочли норму об учете момента регистрации кандидата допустимой для применения в избирательном процессе.
Проведение жеребьевки в спорных ситуациях предусмотрено на региональных и/или местных выборах в 40 субъектах Российской Федерации. Эта процедура вошла в привычку на выборах в США и Великобритании. В частности, в этих странах активно используется вытягивание билета или короткой соломинки, а также подбрасывание монетки. А однажды, это произошло в 1998 г., спорящие кандидаты разыграли мандат в партию покера!7 Несмотря на явную абсурдность, следует признать, что определенная логика в последнем кейсе все же присутствовала: кандидат сам решал судьбу, не доверяясь слепому жребию. Однако вряд ли умение играть в карты может являться критерием для наделения лица властными полномочиями в демократическом и правовом государстве.
Отношение судебной практики к процедуре жеребьевки заключается в признании того, что достаточно заранее, до проведения жеребьевки, определить порядок, чтобы исключить любые сомнения в ее законности8. Нередко этот порядок утверждается не комиссией, организующей выборы, а избирательной комиссией субъекта РФ. В последнем случае предусматривается соблюдение утвержденного порядка неопределенное количество раз при проведении выборов на территории субъекта РФ9. В Санкт-Петербурге такой порядок вообще не является однозначным. Каждый из кандидатов вытягивает пять конвертов, в которые вложены листки с числами (баллами) от одного до десяти. Кандидат, набравший наибольшую сумму баллов, признаётся победителем. При этом само число конвертов превышает число спорящих кандидатов в пять раз. Очевидно, что при проведении такой жеребьевки между тремя и более кандидатами теоретически допустима ситуация, когда спорящие опять не смогут определить победителя. Сама избирательная комиссия данный пробел не урегулировала (наверное, процесс жеребьевки будет продолжен и далее).
Отечественные ученые указывают, что жеребьевка для разрешения ничейного результата на выборах проводилась в современной России около тысячи раз, то есть крайне редко. Но означает ли это, что можно закрыть глаза на столь экстраординарный способ принятия решения? Причем ученые рьяно утверждают, вспоминая порядок замещения должностей в Древней Греции, что метод жеребьевки так же демократичен, как и выборы10. Видимо, исследования математика К. Мэя остались для них незамеченными. Подменяя одно правило другим, мы неизбежно нарушаем правило справедливости. Почему лишь два спорящих кандидата проводят жеребьевку? Они же не выиграли в первом туре, равно как и все остальные кандидаты! Перед законом все должны быть равны, а значит, использование иных правил определения победителя должно касаться всех кандидатов, а не только спорящих.
Приведем пример. Кандидаты A и B получили по пять голосов, а кандидат C – лишь четыре. Кажется логичным проводить второй тур только ме- жду кандидатами A и B. Однако если бы на таких выборах избиратели могли голосовать преференциально, то мы бы получили иные итоги голосования:
5: A > C > B;
5: B > C > A;
4: C > B > A.
Кандидат С в парном сравнении опережает любого иного кандидата (9 > 4). Иначе говоря, при проведении второго тура он должен быть признан победителем (метод Кондорсе). Недопуск его во второй тур несправедлив.
Не стоит думать, что указанный пример носит сугубо умозрительный характер. В условиях низкой явки избирателей при проведении местных выборов подобные итоги голосования вполне вероятны. Так, на выборах 13 сентября 2020 г. в Московском муниципальном образовании Тюменского района два кандидата набрали наибольшее число голосов. И это число равнялось лишь шести голосам избирателей! При этом оставшиеся два кандидата набрали по четыре голоса!11
Мы считаем, что проведение повторного голосования тоже не сто́ ит признавать допустимым. На наш взгляд, допустимо проводить именно повторные выборы, если нет иных научных способов определить победителя. Действительно, все кандидаты проиграли выборы и все они признаны неизбранными, поэтому все они могут принять участие в повторных выборах. Отметим, что именно такие положения и были установлены в избирательном законодательстве советского периода12. Существует, кроме того, масса методик одобрительного или преференциального голосования, которые возможность ничейного результата сводят к минимуму. Более того, они справедливее метода относительного большинства, поскольку позволяют выявить не только положительное, но и негативное отношение избирателей к кандидатам.
Таким образом, понятие однозначности нуждается в корректировке. На исходе ХХ в. математики Д. Вудалл и Н. Тайдеман предложили свои трактовки данного критерия. Вудалл полагает, что система должна считаться однозначной, если при приближении к бесконечному числу избирателей шансы ничейного результата стремятся к нулю. С точки зрения Тайдемана, система должна считаться однозначной, если в случае ничейного результата
Д. М. Худолей ____________________________________________________________________ добавление хотя бы одного избирательного бюллетеня приведет к определению одного кандидата избранным13.
На самом деле принципиальной разницы в двух приведенных трактовках нет. Вудалл говорит о статистической вероятности получения ничейных результатов. В этом смысле система относительного большинства действительно является однозначной, так как при большом числе избирателей вероятность получения двумя и более кандидатами равного числа голосов практически равна нулю. Кейс Мазура, как и аналогичные прецеденты в России и за рубежом, имел место лишь на местных выборах в малочисленном муниципальном образовании. При таком понимании неоднозначных систем не так много. Например, к ним можно отнести метод Коупленда (равно как и сам метод Кондорсе в его классическом понимании), который широко используется при проведении спортивных соревнований в форме группового турнира (футбол, хоккей, шахматы). Напомним, шахматист, выигравший партию, набирает одно очко, а в случае ничьей – пол-очка. Игрок, набравший наибольшее количество баллов в турнире, признаётся победителем. Очевидно, что, используя такие правила при проведении выборов, мы не исключим вероятность ничейных результатов даже при очень большом числе избирателей. В шахматах, футболе и хоккее в этом случае учитывают дополнительные показатели (количество побед, разница голов, количество желтых карточек) или вообще проводят переигровку, гораздо реже определяют победителя жребием.
Поэтому, возвращаясь к концепции Тайдемана, сто́ ит отметить, что, по нашему мнению, дополнительный бюллетень необязательно должен быть подан в пользу одного из спорных кандидатов. Такое понимание можно называть правилом строгой однозначности (в противном случае следует признать систему относительного большинства справедливой). В частности, в рассмотренном выше кейсе Мазура учет дополнительного бюллетеня, который будет подан не в пользу спорящих кандидатов, не поможет выявить победителя. Например, кандидаты A и B получили по пять голосов, а кандидат C – два голоса. Дополнительный бюллетень, поданный в пользу C, не решит задачу определения победителя.
Отметим, что использование на выборах отдельных преференциальных методик позволит соблюсти наше понимание правила однозначности в большинстве случаев. Такой, например, является методика альтернативного вотума. Предположим, пять избирателей проголосовали следующим образом: A > B > C; пять избирателей иначе: B > A > C; наконец, два гражданина оп- ределили, что C > A > B. В данном случае избирательная система однозначно определит избранным кандидата A, поскольку кандидат С c наименьшим числом первых преференций подлежит исключению и его голоса́ должны быть переданы кандидату A, который и становится победителем с наибольшим числом голосов (семь из двенадцати).
Немного изменим ситуацию. Пусть только один сторонник кандидата C уверен, что C > A > B, а оставшийся считает иначе: C > B > A. В этом случае кандидаты A и B получат одинаковое число голосов – по шесть. Воспользуемся правилом дополнительного бюллетеня. Предположим, что он подан за кандидата C (C > A > B). В итоге кандидат A будет объявлен победителем с семью голосами. Мы видим, что правило дополнительного бюллетеня действительно эффективно для данного примера.
Однако полностью соблюсти данное правило все равно не получится. Если бы в приведенном примере за кандидата C проголосовало не два, а большее число избирателей, то возможна неразрешимая спорная ситуация. Например, два сторонника кандидата C считают, что C > A > B, а другие два избирателя уверены в обратном: C > B > A. При неизменном числе сторонников кандидатов A и B мы получаем ничейный результат: у обоих кандидатов по семь голосов. Учет дополнительного бюллетеня, поданного в пользу кандидата C (C > A > B), приведет к признанию всех трех кандидатов избранными!
Ряд преференциальных методик (Шульце, Кемени – Янга и Тайдемана) позволяет разрешить и такую спорную ситуацию. Они основаны на правиле Кондорсе, которое требует признания кандидата избранным, если он побеждает в парных сравнениях всех иных кандидатов. В данном случае такой кандидат имеется: кандидат A побеждает кандидата B (8 > 7) и кандидата C (10 > 5).
И все же ни одна из существующих, в том числе и современных, методик не может избежать получения ничейных результатов (неразрешимых циклов в голосовании), обнаруженных маркизом Кондорсе еще в XVIII в. Например, при трех избирателях, которые расставили кандидатов в абсолютно противоположном порядке (A > B > C, B > C > A, C > A > B), одного победителя нет и быть не может. Но добавление любого дополнительного бюллетеня однозначно определит победителя.
В силу этого мы приходим к выводу, что однозначными в буквальном смысле слова избирательными системами является лишь небольшой круг методик. Такие методики практически в 100 % случаев позволяют проводить однозначные выборы, при этом теоретически маловероятный ничейный результат может быть разрешен дополнительным бюллетенем, поданным за любого из участвующих в выборах кандидатов.
К сожалению, большинство избирательных систем в России и за рубежом не соответствуют критерию однозначности в той или иной трактовке. Вряд ли следует согласиться с Вудаллом и признать в полной мере отвечающими этому критерию системы относительного большинства, которые применяются в нашей стране при избрании депутатов всех уровней власти. Однако и системы абсолютного большинства, используемые при избрании Президента РФ и губернаторов, лишь частично ему соответствуют. Фактически системы абсолютного большинства являются таковыми лишь на бумаге, поскольку допускают проведение второго тура. По сути, это разновидность многотуровых систем, причем в первом туре может применяться правило относительного большинства для определения двух участников второго тура со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Шансы проведения второго тура весьма высоки. Следовательно, в полной мере правила однозначности не соблюдаются, несмотря на возможность определения победителя во втором туре. Единственное, что хоть как-то оправдывает данную методику, – что для разрешения спорной ситуации она предусматривает демократическую процедуру перебаллотировки. Однако не факт, что подлинный победитель будет определен во втором туре, – данная методика противоречит принципу Кондорсе. Это объясняется тем, что для определения участников повторного голосования применяется именно правило относительного большинства (кстати, оно не так сильно отличается от несправедливого правила меньшинства).
Пропорциональные методики в целом соответствуют критерию однозначности. Однако те системы, которые допускают проведение второго тура (в Сан-Марино, например), также в полной мере не соответствуют критерию строгой однозначности.
Неоднозначность теоретически возможна и в том случае, если замещаемых мандатов не хватит на все партии, допущенные к распределению депутатских мандатов. Подобная ситуация может возникнуть, если распределяется небольшое количество мандатов и, следовательно, фактический заградительный барьер (доля голосов избирателей, которую де-факто необходимо получить партии, чтобы иметь право на хотя бы один мандат) выше юридического. Так, в случае замещения десяти мандатов (минимальное число кандидатов, избираемых по партийным спискам на местных выборах, установленное в российском избирательном законодательстве) фактический заградительный барьер будет равен 10 % голосов избирателей. При этом российское законодательство требует обязательного предоставления хотя бы одного мандата каждому списку кандидатов, допущенному к распределению мандатов. Очевидно, что если одиннадцать партий наберут в пределах 5–10 % го- лосов, то одна партия неизбежно останется без мандата. И возникает резонный вопрос: какая из партий в итоге будет объявлена проигравшей? Федеральный закон четкого ответа не дает, однако представляется, что такой будет объявлена партия, получившая наименьшее число голосов. К сожалению, Конституционный Суд РФ, рассматривая указанную норму закона, в постановлении от 7 июля 2011 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области “О муниципальных выборах в Челябинской области” в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И. И. Болтушенко и Ю. А. Гурмана» обязал законодателя установить справедливый порядок распределения мандатов при проведении местных выборов. Однако законодатель решил этот вопрос половинчато, а в отношении региональных выборов минимальная численность кандидатов, избираемых по партийным спискам, вообще осталась неустановленной (она не может быть менее 25 % от всей численности регионального парламента, который, в свою очередь, должен состоять не менее чем из 15 депутатов). Таким образом, избрание четырех-пяти депутатов по партийным спискам на региональных выборах не нарушает федеральное законодательство! По нашему мнению, избирательный барьер не должен превышать 5 % и, следовательно, по партийным спискам должно избираться не менее 20 кандидатов.
Строго говоря, критерию однозначности не соответствуют и правила распределения остатков, например правило наибольших дробей. Именно этот фактор обусловливает немонотонность (так называемый парадокс Алабамы: в случае увеличения числа голосов партия может уменьшить свое представительство в парламенте из-за того, что не получит мандат при распределении остатков).
Не соответствуют критерию однозначности параллельные смешанные избирательные системы. (Заметим, что именно такие методики применяются на выборах в России.) По сути, это мажоритарно-пропорциональные системы, то есть сумма двух несамодостаточных методик, которые в отдельности не способны распределить абсолютно все мандаты. Таким образом, и здесь мы наблюдаем использование различных правил при проведении одних и тех же выборов. Напротив, связанные избирательные системы представляют собой единые комплексные методики, которые не допускают применения дополнительных правил.
Системы выборов по многомандатным округам (их еще называют по-лупропорциональными методиками) тоже могут не отвечать критерию одно- значности, если используют правила относительного большинства (выборы в условиях блокового голосования, ограниченного вотума или единственного передаваемого голоса) или допускают возможность проведения второго тура в рамках системы абсолютного большинства (во Франции на региональных выборах). При проведении выборов по системе единого передаваемого голоса неоднозначность может возникнуть при установлении квоты Хагенбаха-Бишофа, а не квоты Друпа. В этом случае количество избранных депутатов может превысить число мандатов.
Наконец, критерию однозначности не соответствуют в полной мере положения закона о признании выборов несостоявшимися и недействительными. Однако, на наш взгляд, критерий однозначности и не должен применяться к этим нормам закона, поскольку они не связаны с математическими алгоритмами тех или иных избирательных систем, а содержат сугубо юридические правила. Единственное исключение – проведение голосования по одной кандидатуре. Сугубо математически такое голосование будет противоречить критерию однозначности.
Итак, однозначная избирательная система представляет собой единый математический алгоритм, а не сумму нескольких (последнее характерно для смешанных и многотуровых систем). Говоря юридическим языком, такое единство в правовом регулировании гарантирует проведение равных и справедливых выборов.
К. Мэй первым подметил связь критерия однозначности и абсолютного большинства. Только метод абсолютного большинства научно обоснован. Однако в случае участия трех и более кандидатов он может соответствовать критериям однозначности и справедливости лишь при использовании отдельных методик преференциального голосования (Шульце, Тайдемана, Ке-мени – Янга), основанных на правиле Кондорсе. Последнее мы считаем концентрированным выражением критерия справедливости, поскольку методика маркиза Кондорсе соответствует и критерию абсолютного большинства. Так, кандидат, набравший абсолютное большинство голосов, обыграет в парном сравнении, то есть в гипотетическом втором туре, любого другого кандидата. Например, за кандидата A проголосовал 51 избиратель, а за кандидатов B и C остальные 49 (25 и 24 голоса соответственно). Очевидно, что A > B и A > C, так как A > B + C.
Таким образом, критерий строгой однозначности, по нашему мнению, должен основываться на трактовке Тайдемана с предложенными корректировками. В этом случае мы сможем избежать недемократических процедур для разрешения спорных ситуаций. Проведение выборов по современным преференциальным методикам, соответствующим методу Кондорсе, а это в первую очередь методики Шульце, Тайдемана, Кемени – Янга, позволит уместить выборы в один тур, что сэкономит значительные бюджетные средства. В конечном счете учет критерия однозначности при разработке избирательных систем повысит легитимность выборов как научного метода принятия решения в демократическом обществе.
Список литературы Однозначность избирательных систем как критерий их справедливости
- Колюшин Е. И. О квазиосуществлении решений Конституционного Суда Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 3.
- Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. для вузов. М.: Статут, 2013.
- Федоров В. И. О значении жеребьевки на выборах в России // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. № 1.
- May K. A Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decisions // Econometrica. 1952. Vol. 20, no. 4.
- Stone J. Tories denied majority on council by one seat after drawing straws as a tiebreaker // Independent. 2017. May 6.
- Tideman N. Collective Decisions and Voting: The Potential for Public Choice. Burlington, 2006.