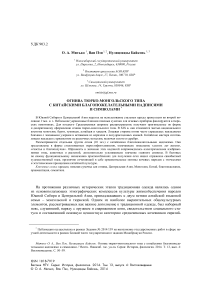Огнива тюрко-монгольского типа с китайскими благопожелательными надписями и символами
Автор: Митько Олег Андреевич, Ван Пэн, Нулицзянцзы Байкэнь
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
В Южной Сибири и Центральной Азии переход на использование стальных кресал происходит во второй половине I тыс. н. э. Небольшие украшенные бляхами поясные сумочки для огневых приборов фиксируются в тюркских памятниках. Для позднего Средневековья широкое распространение получают оригинальные по форме и декоративному оформлению огнива тюрко-монгольского типа. В XIX в. они становятся частью национального костюма монголов, бурят, тувинцев, алтайцев и хакасов. Лицевая сторона огнив часто украшалась накладными бляхами с чеканными узорами и вставками из кораллов и полудрагоценных камней. Китайские мастера изготавливали накладки с орнаментом из различных металлов, включая золото и серебро. Рассматривается отдельная группа огнив (10 экз.) с китайскими благопожелательными надписями. Они представлены в форме стилизованных иероглифов-символов, означающих пожелание «долгих лет жизни», «счастья и благополучия». Образность и значение этих надписей сопровождались аллегорическими изображениями птиц, животных и растений, дополнительно усиливающих значение главного символа. В бытовых по своему функциональному назначению приспособлениях для получения огня нашел отражение самобытный художественный язык, органично сочетающий в себе орнаментальные мотивы кочевых народов с этическими и эстетическими принципами китайской культуры.
Кресало, поясная сумочка для огнива, центральная азия, монголия, китай, благопожелание, орнаментация, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/147219079
IDR: 147219079 | УДК: 903.2
Текст научной статьи Огнива тюрко-монгольского типа с китайскими благопожелательными надписями и символами
На протяжении различных исторических этапов традиционная одежда являлась одним из основополагающих этнографических комплексов культуры жизнеобеспечения народов Южной Сибири и Центральной Азии, принадлежавших к двум ветвям алтайской языковой семьи – монгольской и тюркской. Одним из наиболее выразительных общекультурных элементов, рассматриваемых как важное дополнение к традиционной одежде, был наборный пояс, служивший, наряду с оружием и снаряжением коня, свидетельством социального статуса и составлявший основную ценностную категорию средневековых кочевников евразий- ской степи. По данным археологии, наборные пояса с подвесными сумочками различной формы и устройства были наиболее надежным и удобным местом для хранения мелких, но необходимых бытовых изделий, предметов туалета, украшений и амулетов.
Начиная с тюркского времени получили распространение небольшие украшенные крупными бляхами поясные сумки для огневых приборов [Митько, 2013]. В позднем Средневековье у тюркских и монгольских народов появляются оригинальные по форме и декоративному оформлению огнива. В отличие от Европы, где появление верхней одежды с карманами повлекло за собой переход на карманные сумочки для хранения кресал, кремня и трута (pocket tinder-pouch), на территории Южной Сибири и Центральной Азии традиция ношения поясных кресальных сумок просуществовала около полутора тысячи лет и достигла своего апогея к концу XIX в. [Митько, 2012].
Изучение столь длительной традиции невозможно в отрыве от историко-культурной среды, в которой она развивалась. На всем протяжении истории поясных кресальных сумок можно выделить различные художественно-стилистические и региональные направления, школы и центры декоративно-прикладного искусства [Соктоева, Бадмаева, 1971. С. 6–7; Кочешков, 1979. С. 28–29]. Общей характерной чертой этой традиции следует считать ее устойчивость, связанную с хозяйственным укладом и специфическим бытом воинов, скотоводов и охотников степей Высокой Азии, на менталитет которых в значительной степени повлиял ламаизм. Помимо этого, консервация знаково-кодовой системы костюма (включая пояс) центральноазиатских кочевников во многом была определена законодательными актами и предписаниями, принятыми в Китае в эпоху маньчжурской династии Цин (1644– 1911). Административный аппарат жестко контролировал все стороны жизни подданных Империи, регламентируя и ношение определенного типа одежды, выполнявшей социальнонормативные функции различных слоев и групп населения [Бадамхатан, 1974. C. 55].
К концу цинского правления праздничная и повседневная одежда монголов и тюркских народов, оказавшихся в сфере политического и социально-экономического влияния Китая, подпоясывалась матерчатым поясом, который обматывали вокруг талии. Мужчины к такому поясу на специальных кожаных ремнях, нередко украшенных серебряными или нефритовыми бляхами [Митько и др., 2012], подвешивали поясной набор: огнива (по-монгольски – хэт / хэтэ ), богато отделанные по коже орнаментированным металлом, и нож в ножнах, где часто хранились и палочки для еды [Викторова, 1987. С. 109]. Огневые приборы подобного типа и под тем же названием были распространены у бурят [Бабуева, 2004. С. 121]. Алтайцы их называли отык [Алтайский..., 1990. С. 12], хакасы – отых [Сунчугашев, 1979. С. 126], тувинцы – оттук [Вайнштейн, 1974. С. 97], якуты – кыалык [Гурвич, 1977. С. 129].
Очевидно, после 1720 г., когда маньчжуры, захватив Лхасу, оставили в городе двухтысячный монгольский гарнизон, огнива тюрко-монгольского типа могли появиться у тибетцев, став частью их традиционного костюма 1. На их монгольское происхождение указывает название ( кетэ ) [Козлов, 1949. С. 180; Hummel, 1953. Abb. 104, 105; Рерих, 1992; 1995. С. 339; Rockhill, 1891. Р. 143, 231; Лазаревич, Молодин, Лабецкий, 2002. Рис. 29, 30]. Возможно, с того же времени подобные огнива распространяются и у непальцев, поддерживавших с Тибетом тесные экономические и религиозные связи [Zessin, 2009].
У народов Южной Сибири и Центральной Азии в XVIII в. существовало высокохудожественное кузнечное и ювелирное ремесленное производство [Воyer, 1952]. Однако с середины XIX в. продукция мастеров-серебряников не могла конкурировать с русскими и китайскими товарами, что отразилось и на изготовлении и распространении огневых приборов. От русских купцов к сибирским народам поступали относительно дешевые и простые в изготовлении кресала, как правило, калачевидной формы. Китайские мастера изготавливали огнива тюрко-монгольского типа, украшенные орнаментированными металлическими накладками из различных металлов, включая золото и серебро. Основными потребителями дорогих огнив были, пользуясь выражением П. К. Козлова, «окитаивавшиеся… богатые и чиновные монголы, которые вместо юрт строят себе дома китайской архитектуры» [1949. С. 405]. Свою роль сыграло и распространение табакокурения: хорошо известно, что китай- ские трубки и курительные принадлежности пользовались широкой популярностью далеко за пределами Китая.
Свидетельством китайского влияния на тюрко-монгольскую традицию оформления наборных поясов с подвесными кресальными сумочками является наличие палочек для еды, крепившихся на ножнах ножей, составлявших единый комплект с огнивами. Подобные ножны могли изготавливать монгольские мастера, ориентировавшиеся на стандартные фор ‐ мы. В то же время китайская продукция отмечена такими характерными особенностями, как клейма на боковых металлических обкладках и иероглифы, нанесенные на стальные ударные лезвия огнив. Особенно выделяются вышедшие из рук китайских мастеров кресальные сумочки с органично вписанными в орнамент устойчивыми фразеологическими словосочетаниями, отражающими многообразную смысловую символику огня, связанную с непрерывными природными циклами рождения, жизни и смерти [Mitko, Stupan, 2011. P. 92–94].
Изучение огневых приборов тюрко-монгольского типа с китайскими надписями имеет важное значение для характеристики духовной культуры скотоводческих обществ Южной Сибири и Центральной Азии на рубеже позднего Средневековья и Нового времени. В этой связи представляют интерес выделяемые в отдельную самостоятельную группу поясные кресальные сумочки с краткими китайскими благопожелательными надписями, представленными в форме стилизованных иероглифов-символов. В настоящее время в состав группы огнив с краткими китайскими благопожелательными надписями включено 10 экз., сведения о которых получены из иллюстрированных каталогов европейских и китайских музеев, в ходе обработки этнографических коллекций отечественных музеев и знакомства с предметами современного монгольского и китайского рынков антиквариата. На шести из них помещен иероглиф шоу ( 寿 , долголетие ) (рис. 1). Две кресальные сумочки были зафиксированы в антикварном магазине Улан-Батора в 2012 г. одним из авторов данной публикации. Огнива использовались длительное время. В центральной части кожаных клапанов помещены металлические накладки в виде стилизованного иероглифа шоу . На одной из сумочек изображение иероглифа симметрично обрамляют две накладки, покрытые декоративно насыщенным узором вьющегося побега (см. рис. 1, 1 ).
Иероглифический знак на кожаном клапане второй сумочки с четырех сторон окружают небольшие фигурные железные накладки, сочетающие элементы растительного узора и стилизованного образа с орнитоморфными чертами. На изображение иероглифа шоу с помощью металлического чекана с округлой ударной частью нанесена сплошная орнаментальная линия из мелких кружков, которые могут быть связаны с солярной символикой (см. рис. 1, 3 ). Включение в орнамент солнечных символов различной формы характерно для украшения огнив саяно-алтайскими мастерами. Аналогичный орнамент в виде линии из мелких кружков, повторяющих очертания иероглифического знака, можно проследить на одной из двух кресальных сумочек, хранящихся в Красноярском краевом краеведческом музее 2.
Иероглиф шоу , вырезанный из тонкой железной пластины, помещен в центральной части кожаного клапана сумочки (фондовый номер хранения 1465-4). На него нанесен орнамент в виде линии из мелких кружков, повторяющей очертания знака. По обеим сторонам иероглифа симметрично расположены две округлые бляхи с четырьмя овальными вырезами, у которых вдоль края и по контуру вырезов нанесена такая же орнаментальная линия, что и на центральной накладке в форме иероглифа. Все три накладки выполнены в единой стилистике и составляют законченную декоративную композицию (см. рис. 1, 2 ). На втором огниве (№ 1465-3) из фондов Красноярского музея иероглиф шоу представлен в виде прорезного геометрического орнамента, занимающего все пространство округлой металлической бляхи. Предельный схематизм делает его узнаваемым лишь при сравнении с более точными изображениями. В таком же стиле выполнены две небольшие накладки, имеющие форму стилизованных растительных побегов, органично дополняющих центральную фигуру (см. рис. 1, 4 ).
В иллюстрированных каталогах европейских музеев и частных собраний также встречаются огнива тюрко-монгольского типа. Выполненную из серебра центральную накладку в виде иероглифа, обозначающего пожелание «долгой жизни», можно проследить на огниве тюрко-монгольского типа из коллекции «Брайант и Мэй» Музея науки в Лондоне. Иероглиф шоу окружают изображения двух цветков и двух бабочек, имеющих символическое значение (см. рис. 1, 5).
Подобное сочетание иероглифов и символов можно проследить на целом ряде престижных предметов, среди которых в рамках нашей темы особый интерес вызывает типологически близкая композиция на огневом приборе, который, возможно, был изготовлен в конце XVIII в. для императора Китая. Прибор представляет собой коробочку прямоугольной формы с закругленными углами (размер – 7,7 × 5 см, материал – золото, вес – около 130 г), стальное ударное лезвие закреплено в нижней части. На крышке коробочки на фоне цветочного орнамента, выполненного в рельефном стиле, помещен иероглиф шоу , покрытый эмалью темно-синего цвета. Вокруг него пять небольших изображений летающих летучих мышей и шесть небольших округлых бусин из бирюзы, помещенных в центр цветочных бутонов. Такие же бирюзовые бусины расположены по всему периметру коробочки. Долгое время «золотое огниво» находилось в частной коллекции Бидвелла, позднее его передали в Музей науки. На рисунке, сопровождающем первую публикацию этого экспоната, хорошо

Рис. 1. Огнива тюрко-монгольского типа с благопожеланием «долголетия»: 1 , 3 – из коллекций антикварных магазинов Улан-Батора; 2 , 4 – из фондов Красноярского краевого краеведческого музея; 5 , 6а , б – из коллекции «Брайант и Мэй» лондонского Музея науки ( 6а – по: [Cassiandra, Cezati, 1996. Pl. 45, 250 , Pl. 48, 252 ]; 6б – по: [Miller, 1903. № XLVIII]) ( 1–4 – фото О. А. Митько; 5–7 – без масштаба)

Рис. 2. Огнива тюрко-монгольского типа с китайскими благопожеланиями: 1 , 3 , 4 – из коллекций антикварных магазинов Улан-Батора; 2 – из коллекции раритетов династии Цин (по: [Тушо…, 2008. С. 180]) ( 1 , 3 , 4 – фото О. А. Митько; 2 – без масштаба)
видна желтая шелковая лента, на конце которой закреплен крупный шарик из красного коралла [Miller, 1903. Р. 200. № XLVIII]. Лента крепилась на задней стороне коробочки, и ее наличие позволяет предположить, что данное огниво могло подвешиваться к поясу (см. рис. 1, 6а ). На фотографии из более поздней публикации лента отсутствует (как и три бирюзовые вставки по периметру коробочки) (см. рис. 1, 6б ). Возможно, для европейских исследователей отсутствие ленты послужило основанием для отнесения данного огневого прибора к типу карманных «трутниц» (pocket tinder-pouch) [Cassiandra, Cezati, 1996. P. 126].
Рассматриваемая группа огнив тюрко-монгольского типа с краткими китайскими благо-пожелательными надписями включает в себя два экземпляра с надписью, состоящей из двух знаков, прочитываемых как дацзи ( 大吉 , счастье и благополучие ). Они были выставлены на продажу в одном из антикварных магазинов Улан-Батора летом 2012 г.
Лицевая сторона первого огневого прибора декорирована серебряными накладками с изображением вьющегося побега. Центральное место в композиции занимают располо- женные в вертикальном положении накладки в форме иероглифов. Они позолочены, что выделяет их на фоне сложного растительного орнамента, а вся поверхность украшена мелкими кружками, нанесенными металлическим чеканом с округлой ударной частью. Огниво использовалось длительное время. Заметны следы значительной сработанности ударной частью стального лезвия, коррозирована часть нижней накладки в форме знака цзи (吉). Очевидно, она была утеряна, а затем неаккуратно прикреплена к кожаной основе железной заклепкой (рис. 2, 1). Задняя сторона кресальной сумочки украшена аналогичным орнаментом, однако нижние накладки утеряны (на коже прослеживаются лишь места крепления), а верхний иероглифический знак да (大, большое) так же неаккуратно, как и знак цзи (吉) на передней стороне, заново закреплен с помощью заклепки с крупной головкой (см. рис. 2, 1). Вероятно, дублирование орнамента с пожеланием «счастья и благополучия» на задней стороне кресальной сумочки имело не только декоративное, но и символическое значение, означавшее усиление благопожелательного смысла.
На наш взгляд, это предположение находит свое подтверждение в орнаментации огнива из иллюстрированного каталога музейных раритетов, относящихся ко времени правления династии Цин, и огнива из монгольской антикварной коллекции (см. рис. 2, 2 , 3 ).
На передней кожаной крышке огнива из иллюстрированного каталога закреплено три накладки в виде иероглифических символов, означающих дацзида ( 大吉大 , больше счастья и благополучия ). При этом поверх центрального знака цзи ( 吉 ) нанесен опять же знак да ( 大 , большое ) (см. рис. 2, 2 ). На русском языке это синонимично выражению «большое-преболь-шое счастье и благополучие». Огниво подвешивалось к поясу с помощью витого шнура, на конце которого прикреплена подвеска из слоновой кости, с изображением мыши. Ее образ аллегорически усиливает благопожелательность нанесенных на огниво иероглифических знаков, очень крупных и занимающих всю поверхность крышки. Для дополнительных орнаментированных накладок практически не осталось места. На крышке кресальной сумочки из монгольской антикварной коллекции накладка в форме благопожелательного иероглифического знака да ( 大 , большое ) занимает всю ее центральную часть (см. рис. 2, 3 ). Крупные размеры знака символизируют связанные с ним пожелания «большого» счастья, благополучия и всего наилучшего. Значение иероглифа усилено узором на угловых накладках, сочетающим элементы растительного и геометрического орнамента, близкого к модификации «узла счастья».
Наряду с рассмотренными благопожеланиями счастья и благополучия, на огниве из антикварного магазина в Улан-Баторе был зафиксирован знак, соединяющий два иероглифа сань юань ( 三元 , три вида государственных экзаменов ). Знак отлит из серебра, как и другие металлические детали огнива (за исключением стального ударного лезвия), и также расположен по центру кожаного клапана огневого прибора (см. рис. 2, 4 ). На фоне богато декорированных огнив кресальная сумочка, украшенная одним иероглифическим символом, выглядит довольно «скромно», но эта «скромность» полностью компенсируется очень ёмким и содержательным смыслом, отличающимся от стереотипных благопожеланий. Выражение сань юань может включать в себя различные трактовки, но, на наш взгляд, оно связано с существовавшей идейной и образовательной системой. При династии Цин благополучное прохождение трех ступеней чрезвычайно сложных и долговременных государственных экзаменов (уездных, провинциальных и столичных) давало возможность достигнуть самых высоких чиновничьих должностей в административном аппарате Империи. Мы не знаем, для кого было изготовлено огниво с подобным благопожеланием. По закону к государственным экзаменам могли допускаться представители практически всех слоев общества [Сидихменов, 1987. С. 404–415]. Возможно, среди кандидатов на высшие государственные посты были выходцы и из тюрко-монгольских этнических групп.
Исследование огнив тюрко-монгольского типа с китайскими надписями носит разноплановый характер. В бытовых по своему функциональному назначению приспособлениях для получения огня нашел отражение самобытный художественный язык, органично сочетающий орнаментальные мотивы кочевых народов с эстетическими и этическими принципами китайской культуры. Степной орнаментализм, дополненный буддийской символикой, пронизан определенным смыслом. Как отмечала Л. Л. Викторова [1989. С. 222], он отражал представления о могуществе, силе, чистоте, счастье и каждому из этих значений соответствовали свои линии орнаментального мотива. Композиция выражала реальное соответствие рисунка и житейской ситуации или же понятное для носителей традиционной культуры благопожелание.
В эпоху Цин наиболее распространенные благопожелания носили характер культурных стереотипов, которые почти механически использовались при соответствующих случаях, а образность и значение дополнительно усиливались зоо- и орнитоморфными образами и аллегорическими символам. Очевидно, что китайские и монгольские мастера, изготавливавшие и украшавшие огнива, ориентировались не только на стандартные формы и орнаментальные мотивы, но и стремились наполнить их образами и смыслами, понятными и популярными в среде кочевого населения.
Список литературы Огнива тюрко-монгольского типа с китайскими благопожелательными надписями и символами
- Алтайский национальный костюм / Сост. Е. П. Зайцева. Горно-Алтайск: Горно-Алтайск. отд-ниеАлтайск. кн. изд-ва, 1990. 96 с.
- Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят: Учеб. пособие. Улан-Удэ, 2004. 228 с.
- Бадамхатан С. К истории монгольской национальной одежды // Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор: Шинжлах Ухааны Академийн Хэвлах Уйлдвер, 1974. С. 53-56.
- Вайнштейн С. Я. История народного искусства Тувы. М.: Наука, 1974. 224 с.
- Викторова Л. Л. Об этнической специфике культуры (на примере некоторых народов алтайской языковой семьи) // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л.: Наука, 1989. С. 205-225.
- Гурвич И. С. Культура северных якутов-оленеводов. М.: Наука, 1977. 248 с. Козлов П. К. Монголия и Кам. М.: Географгиз, 1949. 439 с.
- Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX - середины XX века. М.: Наука, 1979. 208 с.
- Лазаревич О. В., Молодин В. И., Лабецкий П. П. Н. К. Рерих - археолог. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. 116 с.
- Митько О. А. Поясные кресальные сумки центральноазиатских кочевников в развитом средневековье // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Батор: Изд-во Монгольск. гос. ун-та, 2012. Т. 2, вып. 3. С. 387-392.
- Митько О. А. Металлические кресала древнетюркского времени с территории Южной Сибири и Центральной Азии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Чита: Забайкал. гос. ун-т, 2013. Ч. 2. С. 65-72.
- Митько О. А., Ховалыг Р. Б., Барынай С. Л. Поясные подвески с серебряными украшениями из собрания Национального музея Республики Тыва // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2012. Т. 11, вып. 3: Археология и этнография. С. 340-347.
- Рерих Ю. Н. Звериный стиль у кочевников северного Тибета. М.: МЦР, 1992. 38 с.
- Рерих Ю. Н. По тропам СрединнойАзии. Самара: АГНИ, 1995. 496 с.
- Сидихменов В. Я. Китай: страницыпрошлого. М.: ГРВЛ, 1987. 448 с.
- Соктоева И. И., Бадмаева Р. Д. Бурятский художественный металл. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. 83 с.
- Сунчугашев Я. И. Древняя металлургия в Хакасии: Эпоха железа. М.: Наука, 1979. 192 с.
- Воyer M. Mongol Jewelry: Researches on the Silver Jewelry Collected by the First and Second Danish Central Asian Expeditions under the Leadership of Henning Haslund-Christensen 1936-37 and 1938-39. København: National museets skrifter, Ethnografisk Raekke, 1952. 223 p.
- Cassiandra V., Cesati A. Fire Steels. Torino: Umberto Allemandi & Co., 1996. 131 p.
- Miller Ch. Tinder-Boxes. Article III: Personal Tinder-Boxes // The Burlington Magazine for Connoisseurs. 1903. Vol. 3, №. 8. Р. 197-204.
- Mitko O. A., Stupan Yu. S. Tinger bag with a Chinese inscription // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. 2011. № 4. Р. 90-95.
- Hummel S. Geschichte der Tibetischen Kunst. Leipzig: Veb. Otto Harrassowitz, 1953. 123 S.
- Rockhill W. W. The Land of the Lamas. Notes of a Journey the Through China Mongolia and Tibet with Maps and Illustrations. N. Y.: The Century Co., 1891. 416 p.
- Zessin W. Feuerschlänger aus dem Königreich Nepal und einige andere aus Deutschland, Marokko und Finnland // Uesus: Mitteilungeblatt des Zoos Schwerin. 2009. H. 1. S. 19-28.
- Тушо циндай гусян пэйши [图说清代古祥佩饰。北京:中国轻工业出版社 ]. Изображения амулетов династии Цин. Пекин: Чжунго цингунъе чубаньшэ, 2008. 280 с.