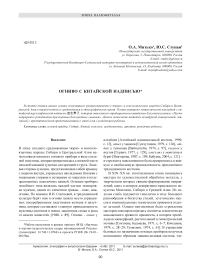Огниво с китайской надписью
Автор: Митько О.А., Ступан Ю.С.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Эпоха палеометалла
Статья в выпуске: 4 (48), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ огнива, получившего распространение у тюрко- и монголоязычных народов Сибири и Центральной Азии в период позднего средневековья и этнографическое время. Огниво украшено металлической накладкой с китайской иероглифической надписью, которая относится к традиционным китайским благопожеланиям: «Пусть непрерывно рождаются драгоценные/благородные сыновья». Данное пожелание является культурной универсалией, связанной с архетипическими представлениями о связи огня с рождением ребенка.
Огневой прибор, сибирь, китай, монголы, средневековье, архетип, рождение ребенка
Короткий адрес: https://sciup.org/14522890
IDR: 14522890 | УДК: 903.2
Текст научной статьи Огниво с китайской надписью
В эпоху позднего средневековья тюрко- и монголоязычные народы Сибири и Центральной Азии использовали комплект огневого прибора в виде стальной пластины, которая прикреплялась к нижней части плоской кожаной сумочки для кремней и трута. Лицевая сторона сумочки, представляющая собой крышку с зацепом внутри, украшалась накладными бляхами с чеканными узорами и вставками из кораллов и полудрагоценных поделочных камней. Огневые приборы подобного типа являлись важной частью экипировки мужчин, одним из элементов триады – пояс, нож, огниво. По мнению И.И. Соктоевой, в традиционной культуре бурят нож и огниво заняли место украшенных посеребренными пластинами колчана и налуч-ника, которые составляли «главную принадлежность мужчины-охотника и воина, защитника семьи и рода от всяких напастей» [1988, с. 89]. Огниво – отык у алтайцев [Алтайский национальный костюм, 1990, с. 12], отых у хакасов [Сунчугашев, 1979, с. 126], от-тук у тувинцев [Вайнштейн, 1974, с. 97], кыалык у якутов [Гурвич, 1977, с. 129], хэт/хэтэ у монголов и бурят [Викторова, 1987, с. 109; Бабуева, 2004, с. 121] – из предмета повседневного быта превратилось в важную и необходимую принадлежность праздничного традиционного костюма.
В XIX–XX вв. изготовлением огнив занимались мастера по художественной обработке металла, с творчеством которых связано формирование направлений, школ и центров декоративно-прикладного искусства Монголии, Сибири и Средней Азии. Их изделия слабо поддаются типологии в силу большого разнообразия и богатства стилей, эстетических вкусов и индивидуальных технических приемов в отделке деталей. Однако неизменным было стремление мастеров-ювелиров передать элементы семантически насыщенного древнего орнамента, в котором преобладали зооморфный, растительный и геометрический мотивы [Соктоева, Бадмаева, 1971, с. 6–7; Кочешков, 1979, с. 28–29; Тумахани, 1974, с. 61]. В украшении бытовых по назначению огневых приборов получила воплощение образная знаково-кодовая система, эле-
менты которой позволяют считать эти предметы наделенными «наивысшим семиотическим статусом» [Байбурин, 1981, с. 216]. В этой связи интерес представляет хранящееся в фондах Владимиро-Суздальского музея-заповедника огниво с редко встречающимся украшением на кожаной сумочке.
Описание предмета
Огниво представляет собой стальную, слегка изогнутую массивную пластину, к которой прикреплена сумочка-кошелек. На сумочке имеются ручка в виде фигурной скобы с ограничителями на концах, зафиксированная на пластинчатом креплении с кольцом для рем- ня или цепочки, узкие орнаментированные пластины по краям и вдоль ударного лезвия, а также фигурная накладка на лицевой стороне. Пластины украшены парными полосками, нанесенными методом тиснения, и, вероятно, имитируют узловатые побеги бамбука. Фигурная накладка изготовлена в форме рамки с повторяющимися графическими элементами, которые образуют геометрический узор, подчиненный определенному ритму. Данный узор в китайской художественной традиции отдаленно напоминает переплетающиеся корни растений [Афонькин, Афонькина, 1998, с. 159–160]. Центральная часть рамки заполнена ажурным орнаментом из тонких побегов растений, создающих фон, с нанесенными на него иероглифами 连生贵子. Рамка сделана из

Рис. 1. Огниво с китайской надписью из собрания ВладимироСуздальского музея-заповедника (лицевая сторона).

Рис. 2. Огниво с китайской надписью из собрания ВладимироСуздальского музея-заповедника (оборотная сторона).
прокатанного латунного листа; весь орнамент выпилен и обработан с помощью абразивных инструментов. Композиция тщательно продумана: ее элементы как бы перетекают друг в друга и создают ощущение воздушной легкости (растения) и динамичности (иероглифы) (рис. 1).
На оборотной стороне сумочки сохранился фрагмент бумажной этикетки, а на ударном лезвии – нанесенный черной тушью инвентарный номер В–3954 (рис. 2). Размеры огнива 5,5×10,5×1,3 см, материал: сталь (ударное лезвие), латунь (ручка, кольцо, шарниры, накладка, обоймы), тисненая кожа (сумочка), дерево (небольшой брусок прямоугольной формы, закрепленный в верхней части ударного лезвия). Степень сохранности средняя, на металлических накладках и обоймах имеются следы коррозии, на поверхности кожи прослеживаются разрывы и загрязнения, в центральной части накладки отсутствует фрагмент орнамента.
Дата поступления огнива в музей неизвестна. Согласно записи в «Главной инвентарной книге», оно было включено в фонды под номером 1608, предположительно в 40-х гг. XX в. огниву присвоен новый номер (В–3954) с кратким комментарием: «Кошелек китайский, обложен медной резьбой». Данная запись была заимствована из более раннего источника.
На фрагменте этикетки на оборотной стороне огнива сохранились элементы надписи, вписанной в овал: буквы « й » и « оммис .» и римская цифра XIV, начертанная синим карандашом. На наш взгляд, надпись восстанавливается как «Музей ученой архивной ком-миссии». В словаре Брокгауза и Эфрона слово «комиссия» пишется с двумя «м» [Коммиссіи, 1895, с. 865]. Можно предположить, что данное огниво поступило в фонд до 1906 г., когда музей принадлежал губернскому Статистическому комитету. Однако в то время основными направлениями деятельности музея являлись изучение края, сбор и показ местного материала, соответственно этому подбирались и экспонаты [Попова, 1998; Барченкова, 2005; Горбунова, 2005].
Маловероятно, что тогда в число поступлений было включено центрально-азиатское по происхождению огниво. Скорее всего, это произошло с 1906 по 1917– 1918 гг., когда вместе с изменением статуса музея (он находился в ведомстве Владимирской ученой архивной комиссии) значительно пополнялись его коллекции и расширялась тематика научных исследований. Более точные сведения о времени и обстоятельствах поступления данного огнива в фонды Владимирского музея пока собрать не удалось.
Перевод и культурная атрибуция надписи
Надпись, вписанная в резной растительный орнамент, состоит из четырех иероглифов и по форме близка чэнъюй (букв. готовое выражение) – характерному для китайской фразеологии четырехсоставному словосочетанию, построенному по нормам древнекитайского языка. Однако, судя по переводу, надпись относится к иному типу культурных стереотипов. По значению, функции и ярко выраженной связи с аллегорическими изображениями она отличается от чэнъюй , которые объединяют в себе исторические и философские притчи, легенды и мифы, крылатые слова и афоризмы, пословицы и заимствования из других языков [Войцехович, 2007, с. 18].
Надпись 连生贵子 (лянь шэн гуй цзы) гласит: «Пусть непрерывно рождаются драгоценные/благо-родные сыновья». В ее дословном переводе сохранены образные компоненты, отражающие понятийные структуры, свойственные китайскому языковому выражению*. «Лянь шэн гуй цзы» – традиционное китайское благопожелание, которое выражали жениху и невесте во время свадебного торжества. Оно соответствовало менталитету средневековых китайцев, основу религиозного синкретизма которых составляли практичность и прагматичность рационалистического мышления, выражавшего насущные требования в форме благопожеланий.
Главными из бесчисленных пожеланий в Китае являлись три много - много лет, много сыновей, много богатства [Васильев, 2001, с. 423]. Рождение сына было важным событием в жизни каждой китайской семьи. Иметь сына считалось целью брака и большим счастьем; от сына родители рассчитывали получить поддержку в старости. Конфуцианская идея о сыновней почтительности нашла отражение в различных трактатах и сборниках поучительных примеров беззаветного служения сыновей своим родителям. Только мальчику было суждено сохранить неразрывную связь семьи со своими предками [Сидихменов, 1987, с. 141, 375–381]. Отсутствие у супружеской пары сына могло принести несчастье не только семье, но и соседям. Этим объясняется многочисленность пожеланий рождения мальчика и связанной с ним символики долголетия, богатства, хорошего урожая, счастья, спокойствия и знатности.
Устойчивое выражение «лянь шэн гуй цзы» появилось в эпоху династии Тан. Надпись из четырех иероглифов 连生贵子 наносилась на керамические сосуды, которые изготавливались в государственных мастерских. Позднее в виде новогодних аллегорических изображений она получила воплощение на лубочных картинках няньхуа , популярных до начала XX в., пока в Китае не появилась западная техника литографии [Алексеев, 1966; Няньхуа…, 2005]. Общий смысл выражения «пусть непрерывно рождаются драгоценные/ благородные сыновья» передавался через символы, названия которых омофоничны базовым иероглифам. Сочетания символов, переданных в виде отдельных предметов, составляли композицию картины, своего рода ребус, разгадать который непосвященному практически невозможно.
Одним из главных символических образов нянь-хуа было изображение мальчика. «Лянь» – означает непрерывность и цветы лотоса (символ плодоносности, чистоты); «шэн» – рождаться и музыкальный инструмент, на котором играли дети; «гуй» – знатный, благородный и цветы коричного дерева, символизирующие детей; «цзы» – сын и семечки. Таким образом формула лянь шэн гуй цзы - «лотос рождает драгоценные семена» – фонетически соответствует фразе «пусть непрерывно рождаются драгоценные/ благородные сыновья» (рис. 3) [Алексеев, 1966, с. 233, рис. 8]. Близкое смысловое значение имеет и формула и нань до цзы - «пусть будет у мужчины много сыновей» [Виногродский, 2003, с. 56].
Наличие китайской надписи на огниве позволяет предположить, что оно было изготовлено на территории современной КНР. Это могла быть Внутренняя Монголия, которая еще при хане Абахае вошла в состав Китая и в настоящее время населена монголами. По ее восточной части (от Кяхты и Урги до Калгана) проходили караванные пути, особенно активно использовавшиеся во второй половине XIX в., когда получила развитие русско-китайская «чайная» торговля [Обручев, 1956, с. 32]. Вместе с чаем в Россию, возможно, попадали и изделия местных мастеров, пользовавшиеся популярностью в Забайкалье и Минусинском крае.
Нельзя исключить, что мастер, изготовивший огниво, и первый владелец этого огневого прибора были знакомы с китайской культурой и языком. О чахарских князьях Внутренней Монголии, находившихся в зависимости от цинского двора, но сохранивших свои сословные привилегии, А.М. Позднеев писал так: «Выросшие в китайской обстановке, постоянно слыша китайский язык и получая образование под руководством учителя китайца, чахарские аристократы, конечно, усвояют себе много китайского; но большинство из них не преклоняется перед китаизмом слепо и избирает из него только действительно лучшее» (цит. по: [Кафаров, 1892, с. 146]). К «действительно лучшему», очевидно, относилось то, что не противоречило культуре кочевых народов, а соответствовало их религиозным представлениям, мировоззрению, моральным и нравственным ценностям.
Монгольские кузнецы, чьи династии насчитывали до восьми поколений, делали традиционные для кочевого быта вещи по определенному технологическому стандарту [Черных, 2007, с. 30, рис. 2, 2 ]. Но со второй половины XIX в. их продукция уже не могла конкурировать с русскими и китайскими товарами. Как отмечал Д. Каррутерс, путешествовавший в 1910 г. по Туве и Монголии, нож на поясе сойота мог быть русский, кремень и огниво монгольские, а трубка китайская [1914, с. 232]. Причем китайские заимствования прослеживались на всех трех элементах экипировки мужчин. Халкинцы, по наблюдениям Г.Е. Грум-Гржимайло, вместо кожаного пояса с серебряными или медными пряжками и украшениями стали носить матерчатый, за которым «обычно носят китайский нож в ножнах и к нему же подвешивается огниво. Этот кремневый прибор служит также предметом щегольства, и у богатых оправляется иногда в золото и серебро. Цепочкой он прикрепляется к медной бляхе, которая в свою очередь снабжена цепью, некогда связывавшей ее с одной из блях кожаного кушака; ныне же бляха просто затыкается за матерчатый пояс» [1926, с. 320, 321]. Завоевали популярность и китайские костяные палочки для еды, которые крепились на ножнах [Вяткина, 1960, с. 194; Викторова, 1987, с. 109].
В данном контексте имеет значение и совпадение сакрального смысла китайской благопожелатель-ной надписи с семантикой огнива, отражающей ар-хетипиче ское ядро представлений народов Евразии о природе огня. Форма, материал, художественное оформление огнив и связанная с этим семантическая наполненность – самостоятельная область исследования, требующая особого осмысления. Как отметил В.Я. Пропп, в огниве «волшебные силы, свойственные вещам», проявляются особенно ярко и сильно. Кремень и железное кресало пришли на смену более древним формам деревянных огнив, с помощью которых огонь добывался трением, а также вызывались духи

Рис. 3. Китайское благопожелание лянь шэн гуй цзы (по: [Алексеев, 1966, рис. 8]).
и волшебные помощники [1986, с. 195–196]. Изображенные на огнивах символы были призваны охранять от бедствий. Во второй половине IX – X в. у народов Северной и Восточной Европы миниатюрные привески, копировавшие форму железных калачевидных кресал, выполняли магическую охранительную функцию, а зооморфные образы на рукоятках биметаллических огнив играли роль оберегов и были связаны с тотемистическими представлениями [Голубева, 1964; Голубева, Варенов, 1993, с. 105–106; Корзухина, 1977; Крыласова, 2004, 2007].
В традиционной культуре огневые приборы, на наш взгляд, наделялись и продуктивной функцией, получившей выражение в универсальном архетипе. В семантической цепочке представлений огонь/очаг/ печь – рождение ребенка огневой прибор может быть поставлен в ее начало. Архетипичность этих представлений определяется тем, что все народы прошли через стадию открытия огня и у всех сформировались близкие и устойчивые смысловые образы [Башляр, 1993, с. 41–42]. В ведическом варианте индоевропейской традиции Агни – сын двух кусков дерева – верхнего и нижнего, в римском – «чудо из средины очага» во дворце альбанского царя Тархетия, благодаря которому рабыня царя родила основателя Рима. Аналогично произошло и зачатие Цекула, основателя города Пренесте – от искры очага [Плутарх, 1987, с. 55]. У славянских народов продуктивная функция огня выражалась в поверье, что весной огонь «разбрасывает мальчиков», т.е. производит на свет детей [Зеленин, 1991, с. 425]. Особенно отчетливо представление о продуктивной функции огня/очага проявлялось в свадебных обычаях. Купальские прыжки через ко стер, как и совместное разжигание огня молодой парой, предшествовали заключению брачного союза. С этими ритуалами семантически сочетается и фольклорный мотив рождения из печки, который В.Я. Пропп связал с культом предков и формами захоронения под очагом [1976, с. 223]. Печь и очаг считались домашним покровителем ребенка. У тюркских народов было принято обращаться к огню как к семейно-родовому хранителю с просьбой даровать чадородие. Очаг, покровительницей которого была Умай, представлялся местом, хранящим и дарующим жизненное начало, сулдэ детей и животных [Дыренкова, 1927; Коруновская, 1927, с. 27; Стебелева, 1972; Потапов, 1991, с. 101, 286]. У якутов известна поговорка: «Дух огня радуется, когда у хозяев много детей», а архетипичный образ ребенка, «живущего на очаге», реализован в фольклорных текстах [Семенова, 1998]. Описывая обычаи монголов Ордоса, Г.Н. Потанин отмечал: «Перед домом жениха раскладывают два костра; это называется сюрюк. Жених ждет невесту сзади огней; невеста приближается к огням и останавливается, жених протягивает ей плеть и перетягивает ее к себе, как бы перетаскивая через порог» [1950, с. 136]. Этот защищающий и очищающий обряд связан также с рождением ребенка. Типологически он близок свадебному обычаю китайцев: новобрачная, входящая в дом мужа, должна была переступить через чашу с горящим древесным углем или раскаленным докрасна плужным лемехом. Его клали на порог две женщины, у которых живы мужья и здоровы дети [Энциклопедия…, 1996, с. 255]. Если у супругов долго не было детей, проводился обряд поклонения огню. Согласно поверью у бурят, после принесения огню жертвы обязательно рождался ребенок, а отскочившие от огня угольки были олицетворением жизненной силы детей. Бездетные родители «угощали» огонь маслом: «Сыновья огня, ешьте, пейте» и просили у «Великого огня очага» ниспослать детей. Супруги стояли у костра в праздничных одеждах. Считалось хорошей приметой, если на их одежду во время моления огню попадали угольки: сколько угольков попало, столько будет детей [Галданова, 1987, с. 43–44, 47]. По представлениям якутов, видеть во сне нож или огниво – к рождению мальчика, ножницы или иголку – к рождению девочки [Попов, 1949, с. 296].
Заключение
Огневые приборы являются одним из звеньев семантической цепочки архетипических представлений о связи огня с рождением ребенка. На наш взгляд, записанное на огниве китайское пожелание «пусть непрерывно рождаются драгоценные/благородные сыновья» является культурной универсалией, обладающей фразеологической и семантической пластичностью, которая позволяет различным символам по-разному проявлять себя. Причинно-следственная зависимость предполагает, что каждый раз, когда огнивом высекается искра, рождается мальчик. Причем пол ребенка определяется самой принадлежностью огнива к мужскому миру вещей. Содержание этой трактовки близко к мансийскому высказыванию о роде Хатаневых: «одна искра будет продолжать род» (от искры семейного костра родится мужчина, его продолжатель) [Рассказы-сказки…, 2001, с. 11]. В рамках архаической ментальности смысловое содержание рассмотренной универсалии меняется под воздействием культурных трансформаций и социальной практики, но это тема отдельного исследования.