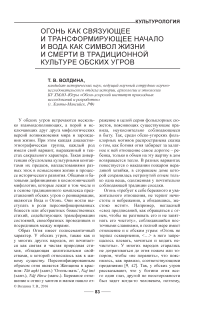Огонь как связующее и трансформирующее начало и вода как символ жизни и смерти в традиционной культуре обских угров
Автор: Волдина Татьяна Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Обобщаются особенности восприятия и традиции почитания стихий огня и воды у разных групп хантов и манси на основе опубликованных и полевых материалов, собранных автором. В традиционном мировоззрении многих народов стихии огня и воды являются универсальными маркерами основ мироздания. Согласно мифологическим воззрениям обско-угорских народов, влияние на жизнь, смерть и последующее возрождение оказывают магические, очищающие и преображающие свойства Воды и Огня и их симбиоза в виде Огненной Воды, получившей свое отражение в сохранившихся древних мифах.
Обские угры, традиционное мировоззрение, мифология, культ воды, культ огня, священная огненная вода
Короткий адрес: https://sciup.org/14723284
IDR: 14723284
Текст научной статьи Огонь как связующее и трансформирующее начало и вода как символ жизни и смерти в традиционной культуре обских угров
(г. Ханты-Мансийск, РФ)
У обских угров встречаются несколько взаимодополняющих, а порой и исключающих друг друга мифологических версий возникновения мира и зарождения жизни. При этом каждая диалектноэтнографическая группа, каждый род имели свой вариант, выраженный в текстах сакрального характера. Такая дивергенция обусловлена культурными контактами их предков, напластованиями разных эпох в осмыслении жизни в процессе исторического развития. Общими и базовыми дефинициями в космогонической мифологии, которые лежат в том числе и в основе традиционного комплекса представлений обских угров о реинкарнации, являются Вода и Огонь. Они могли выступать в роли персонифицированных божеств или абстрактных божественных стихий, содействующих трансформации состояний, своеобразных проводников и посредников между мирами.
Образ Огня имеет полисемантичный характер. У обских угров, также как и у многих других народов, он почитается как святая и чистая природная стихия, обладающая целительными свойствами, к которой относились как к живому существу. Персонифицированным образом огня является Женщина в красном: Tŭt aŋki (хант.) ‘Огонь-мать’, Naj imi (хант.), Nāj ēkwa (манс.). Бережное отношение к огню у хантов и манси нашло от © Волдина Т. В., 2016
ражение в целой серии фольклорных сюжетов, поясняющих существующие правила, неукоснительно соблюдающиеся в быту. Так, среди обско-угорских фольклорных мотивов распространена сказка о том, как богиня огня забирает за халатное к ней отношение самое дорогое – ребенка, только в обмен на эту жертву в дом возвращается тепло. В разных вариантах повествуется о наказании пожаром нерадивой хозяйки, в сгоревшем доме которой сохранилась нетронутой огнем только одна вещь, одолженная у почтительно соблюдающей традиции соседки.
Огонь «требует к себе бережного и уважительного отношения, не терпит нечистоты и небрежения, а обидевшись, жестоко мстит». Например, негласный «свод предписаний, как обращаться с огнем, чтобы не разгневать его и не запятнать его чистоту», соблюдавшийся восточными славянами, в полной мере имеет отношение и к обским уграм: «Огонь не терпел осквернения, <…> в него запрещалось плевать, мочиться и кидать нечистоты». У многих народов старались не дотрагиваться до огня ножом или топором, чтобы «не поранить», что пояснялось, как правило, соответствующими преданиями [9 , 42 ]. Так, у обских угров рассказывают, что у богини огня всего один глаз, другой по неосторожности был задет когда-то человеком, поэтому,
® Финно – угорский мир. 2016. № 2 подкладывая в очаг дрова, всегда почтительно приговаривали, чтобы она берегла свой глаз.
Считается, что у богини огня две стороны. Когда она находится лицом к человеку, то оберегает и защищает его, когда же поворачивается спиной, то это грозит несчастьями. Бедственный стихийный огонь мог причинить безмерные страдания, погубить не одну человеческую жизнь. Опасаясь этого, люди молили богиню огня поворачиваться к ним только лицом (ПМА 2014: Волдина).
У многих народов живительная сила рода или семьи связана с огнем очага [19, 23–26 ]. Передавать тлеющие угли в другой дом нельзя, чтобы не утратить семейное счастье и благополучие своего рода, также нельзя разжигать огонь в чужом очаге и подкладывать в него дрова. Огонь домашнего очага мыслится центром, душой всего дома, символизирует продолжение рода. «Здесь обитает богиня огня Тўтимийэ , говорящая разными голосами, собирающая вокруг себя членов семьи» [15, 83 ]. Она оберегает семью и защищает от опасных существ невидимого мира. Периодически огню делали жертвоприношения едой, питьем, дарили красную ткань или платок. Ежедневно проводили окуривание специальным дымом жилья и вещей.
Через огонь передавали пожелания счастливой и долгой жизни, через него же могли накладываться проклятия на род или семью. С помощью огня специальные люди исцеляли и предсказывали, обращая внимание на то, как он «разговаривает»: приятное потрескивание – хороший знак, а писк сулит недоброе (ПМА 2014: Волдина). Одно из названий богини огня у казымских хантов – ӆапəт тўрəп, тўрəӈ Най Аӈкийə ‘Семиголосая богиня-мать’. «В мифологии хантов… огонь может издавать семь разных звуков, каждый из которых имеет свое значение. Так, например, ласковое “бормотание” огня <…> – к приезду гостей; треск хорошим голосом – охотника ждет удача; резкий треск с шипением <…> – к любой неудаче; сильный треск с раздающимся зво- ном <…> – предупреждение о чем-либо; горение с частым звонким потрескиванием и шипением… – ‘огонь сердится’, значит, что-то требует от хозяев» [6, 144]. «По представлениям угров, огонь своим свистом предупреждает о грядущем несчастье и появлении злых духов». При этом в мире мертвых, представлявшемся зеркальным отражением мира живых, например, «огонь как воплощение души предка предупреждает покойников о том, что пришел tēne kul’ – “пожирающий их дух”, т. е. человек…» [21, 120–121].
Огонь – это посредник между мирами, способ защиты живых от мертвых и средство очищения от скверны. В то же время в ритуальной практике огонь олицетворяет переход в другое состояние. Так, у многих народов древности считалось, что при обряде сжигания покойника человек сразу попадает в иной мир, быстро освободившись от длительных страданий. В. Ф. Генинг обратил внимание на обычай у северных групп обских угров сжигать изображение умершего по истечении определенного срока: «Сжигание мохар – несомненный отголосок некогда существовавшего обряда сжигания самого трупа». Это предположение он подкрепляет археологическими данными. Опираясь на материалы В. Н. Чернецова, ученый выделяет и другие элементы, указывающие на особое значение огня в погребальной обрядности: «У обских угров огню отводилась немалая роль при “очистке” жилища от души… покойного. Смоляным факелом окуривались все вещи покойного и все помещения» [1 , 165 ].
Другой особо почитающейся стихией, также имеющей магические свойства, является вода – vit (манс.), jiŋk (хант.). Сакральный статус воды передается в названии Jemăӈ jans’ti ut (каз. хант.). Е. Хельберг-Хирн, обобщая традиции разных народов, писала, что в амбивалентной символике воды воплощаются одновременно силы жизни и царство смерти. Ритуальное потопление чучела и разнообразные жертвы воде – хлеб-соль, венки, монеты, домашние живот- ные (подобные обычаи свойственны и обским уграм) – могут быть истолкованы как магические попытки вызвать к жизни силы, проводником которых является вода. Природные свойства воды в контексте традиционной культуры переосмыслены как магические; разнообразные мифологические связи воды с потусторонним миром позволяют рассматривать ее как универсальный медиатор. В роли посредника между мирами вода выступает не только в обширных комплексах переходных обрядов, но и в магической практике. В мифопоэтической традиции вода включена в архаически не расчлененный комплекс жизни и смерти [20]. Об этом же говорят близкие суждения, основанные на северо-хантыйском материале: «…вода имеет сакральное название ящты ут ‘то, что пьют’ и считается одним из сильнейших персонажей, так как может брать верх над духом Огня… считается выше (сильнее) ста духов. Огонь можно затушить водой, но разбушевавшуюся водную стихию ничем невозможно остановить. Вода имеет очищающую силу, она – основа жизни. В то же время бездна вод олицетворяет опасность – смерть» [16, 27]. Хотя встречается мнение и о главенствующей роли огня, так как он «горел даже в воде» [2, 394; 5, 35]. В одной из легенд казымских хантов утверждается абсолютное равенство этих двух великих стихий: «Спор между ними произошел: “Кто выше?”. Вода говорит Огню: “Я выскользну и тебя закрою”. Огонь же стал подниматься вверх, и Вода под ним испарилась. “Ты где?”, – говорит Огонь. Без звука Вода ему что-то отвечает. Огонь: “Я знаю, знаю, ты здесь, больше не задавайся!”» (ПМА 2016: Волдина).
Любопытный элемент погребального обряда манси, отражающий представления о роли воды в реинкарнации, с соответствующим пояснением представлен С. А. Поповой: «Ритуальное нанесение воды на тело покойного можно связать и с символическим погружением его в водную среду, что, в свою очередь, связано с одной из идей возрождения. Человек появляется (рождается) из воды (око- лоплодная жидкость), поэтому считается, что и после смерти он вновь возродится, если некоторое время побудет в воде» [13, 139]. Однако, по материалам других культур, описанный обычай является ритуальным омовением при переходе в другой мир, другую жизнь.
В религиозном сознании людей водная стихия ассоциировалась с грозным водяным духом Vit-χōn (манс.) / Jiŋk-Vərt (хант.) и его дочерью Vit-χōn Agi (манс.) / Jiŋk-Vərt Evi (хант.). «Двудушность» указывает на большую силу водной стихии, несущей в себе как мужское, так и женское начало.
Согласно преданию казымских хантов, водный дух Jiŋk-Vərt вначале единолично управлял водной стихией. «У него рождались только дочери, а сыновей не было. А ему нужен был наследник, который мог бы его заменить. Но старшая дочь сказала, что она может заменить его… Тогда Йиңк-Вəрт - Ики решил проверить ее силы и дал три испытания. Одно из них заключалось в том, чтобы обратить воды вспять. Она с этим справилась. Затем Йиңк-Вəрт - Ики приказал: “Убери все воды с Земли”. Дочь справилась и с этим заданием. Но все очень испугались, так как стала исчезать Жизнь на Земле. Не стало лесов, трав, ягод, зверей, птиц. В третьем испытании нужно было поме-ряться с ним своей силой. В этой борьбе не было победителей, силы были равными. Тогда Йиңк-Вəрт - Ики не стал больше испытывать свою дочь, а предложил ей на равных с ним управлять водной стихией. С тех пор Вода стала двудушной», т. е. управляется двумя духами воды – отцом и дочерью (ПМА 2014: Волдина).
У сосьвинских манси также одним из значимых является водный дух, или «водяной царь», Vit-χōn . В народных песнях манси изображался «город могущественного хозяина воды, расположенный в море в устье Оби, как серебряный, золотой; его ворота из золота и серебра, через окна жилища видны различные рыбы и чудесные морские звери. Рядом с главным жилищем находится “маленькая хижина”, в которой живет “воднокосая, ко-
® Финно – угорский мир. 2016. № 2 сатая женщина, воднолицая, имеющая лицо женщина” – дочь водного духа» [7 , 175 ]. Водный дух вездесущ, т. е. может обитать в любом водоеме, но в ритуальной практике чаще всего обращаются не к нему, а к его дочери Vit-χōn Agi [14 , 60 ].
На Тромагане водный дух почитался как Kul-tättə-kō ‘Рыб-творец-мужчина’. Его местожительством считалось устье Иртыша. В сказках рассказывается, что он строгал дерево; из стружек образовались рыбы: из больших – большие, из маленьких – маленькие, по одному экземпляру каждого вида, из которого затем возник соответствующий род. По представлениям сургутских хантов, As-iki ‘Обской мужчина’ считался пятым сыном небесного бога. Согласно мансийским сказаниям, записанным Мункачи, он является его вторым сыном. К. Ф. Карьялай-нен предположил, что после христианизации обских угров на водного духа были перенесены черты небесного привратника – апостола Петра. Благодаря его «крупной рыбной ловле» он стал у многих народов, в том числе и финно-угорских, подателем рыбы. От святого Петра к водному духу-старику перешли замки и ключи. Одновременно он освободился от местной привязки, жертвы ему можно было приносить в любом месте на воде или у воды и не только на реке, но и на озере [7, 175 ]. Однако известно, что «до появления христианства у восточных славян были поверья и ритуалы с выбрасыванием ключей от замков в воду, что отражено, например, в заговорах (в финальной части которых встречаются “закрепки”, где есть слова “а ключ(и) – в воду”, что означает: никто не найдет)» (по сообщению В. И. Харитоновой, 2016).
У обских угров все воды почитались как священные, поэтому строго соблюдались определенные правила. Время от времени проводились специальные обрядовые действия. Так, в честь водного духа и его дочери трижды в течение года совершались жертвоприношения: после ледохода, в конце лета (когда возвращались с Оби) и осенью, перед ледоставом. По некоторым данным, это происходило обязательно в первой четверти месяца, а кровавая жертва приносилась в августе на новолуние. Места на реке, где приносилась жертва, и сам берег (обычно крутой, с большими глубинами рядом) информанты относят к числу жертвенных мест. Обряды, связанные с поклонением водной стихии, разделяются также на посезонные промысловые обряды задабривания; обряды хозяину определенного места; обряды при особой добыче [16, 32].
Почитание реки как символа жизни у обских угров в прошлом имело большое значение: люди не позволяли себе осквернять реку, не входили в воду купаться, не стирали там белье, не бросали мусор, не позволяли плюнуть в воду. Почитание воды велико и сегодня. Обязательным и общепринятым считается обряд окропления головы вешней водой: перед тем как сесть в лодку, люди трижды символически омывали голову водой и просили у духов воды удачи на промысле и защиты на воде. После ледохода, когда первый раз садились в лодку, взрослые себе и детям смачивали голову водой, «приговаривая: “ Нови лов шаш эӆты, питы ӆов шан-ша омсум. Поть. Поть !” “ Нуви лов эвалт питы лов шанша ӆϵӆсув ” (‘Со спины белой лошади пересел на спину черной лошади. Поть. Поть!’), чтобы дух воды <…> уберег людей от трагедий на воде» [8 , 26 ].
У сосьвинских манси места обитания водного духа Вит-хон считались священными. К ним относятся каменистые речные перекаты, ямы, заводи с бурным течением воды, некоторые таежные озера с подземными ключами и не застывающими полыньями. Такие места по-мансийски называются Ялпың ма-вит ‛священная земля-вода’ и служат заповедными для воспроизводства рыб и зверей. Проезжая мимо них, люди старались задобрить духов подарками, например для водных духов бросали в воду медные или серебряные монеты [12]. Подобные традиции характерны и для других групп обских угров. В частности, на материале усть-казымских хантов они описаны Т. Р. Пятниковой [16].
К основным священным мифам обских угров относится миф о сотворении мира среди вод первичного океана благодаря ныряющей птице, зафиксированный также у других народов уральской языковой семьи [10]. На основе его сюжета можно сделать следующий вывод: в древнюю прауральскую эпоху вода ценилась как источник жизни и уже тогда сложилось понимание, что без воды никто и ничто не может возникнуть и существовать. Таким образом, согласно мифологическим представлениям обских угров, как и многих других народов, первоосновой жизни является вода (данная идея, как известно, не противоречит и базовым научным знаниям).
Описание обско-угорской версии этого мифа можно встретить в разных работах. Для его иллюстрации возьмем один из вариантов: «В мифах о возникновении Земли говорится, что сначала была кругом только вода, и на ней плавал единственный клочок земли, где проживали муж и жена. Этот клочок земли и представляется миром предков энгкварп ма . Попасть туда непросто, так как вход (дыра) охраняется железным перевесом и железной сеткой, и только приняв образ птицы или рыбы, можно туда пробраться. Там есть озеро с живой водой, куда женщина выбрасывает кости птиц, и они вновь оживают. Обратно можно выйти только через дыру, заваленную огромным камнем. При этом мир предков представляется как теплый край (южный край) мортым ма , а вода горячей. Видимо, “теплое” и “горячее” здесь отождествляется с югом и является отражением редуцированных представлений об “огненной” природе пограничного рубежа» [13, 152 ]. В дополнение к этому можем добавить: то, что является горячим и огненным для одного мира, в другом мире ледяное и холодное. Так, холодный север (ассоциируется с морями Северного Ледовитого океана) – страна мертвых по отношению к миру живых – в потустороннем мире становится горячим (огненным) морем, которое покойникам необходимо преодолеть, чтобы попасть в мир предков.
Образ священной Огненной воды, приведшей к первой трагедии и существенно изменившей устройство мироздания, можно рассматривать как особую квинтэссенцию колоссальной силы двух могущественных стихий – воды и огня. Огненный потоп здесь рассматривается как рубеж, отделяющий мифологические времена от следующей за ними эпохи героев и далее от жизни современного человека. Известно, что с огнем связывалось и прекращение истории. «Мир рождается в огне, мир преображается в огне и мир гибнет в огне» – как установлено, эта эсхатологическая идея роднит обских угров с народами иранского круга [18]. Водный или огненный потоп всегда присутствует в акте сотворения Нового времени, нового жизненного цикла, своими свойствами и действиями «очищая» их [10 , 35 ].
Согласно преданиям северных манси, появление в прошлом большой Огненной (горячей) воды окрасило почву в цвет охры, так как поверхность земли тогда сгорела. «Люди спасались от наводнения на плотах из семи слоев лиственничных бревен…» [17 , 43 ]. Подобная история упоминалась и в северо-хантыйском мифе о Мировом (космическом) дереве, согласно которому после бедствий, принесенных огненным потопом, вода стала холодной, а оставшиеся в живых люди оказались на земле, далеко друг от друга, и начали вести разный образ жизни. Это, в свою очередь, привело их к постепенному отчуждению, появлению разных языков и религий (ПМА 1992: Волдина). Таким образом, мир изменился, трансформировался.
Персонифицированный образ Огненного моря характерен для всех групп обских угров. Так, у восточных хантов сложилось представление о богине Чарос-най (‘Морской огонь’), которая обитала в море и родила первых людей [19 , 36 ]. По данным А. П. Зенько, древнейший тип представлений о женском божестве сохранили, вероятно, юганские ханты: у них Тёрс-най-анки (‘Морского огня мать’) считалась в общем плане матерью всего сущего в мире, в том чис-
Финно – угорский мир. 2016. № 2
ле верховного божества Санки и светил. Она изначально обитала в море, «там, где оно становится огненным», и была старше всех сверхъестественных существ [4]. Именно горячее «море, возможно, связывается и с представлением манси о воде как первоначальной основе жизни» [13 , 152 ]. У пимских хантов считается: «Всем, даже маленькой былинке, дает жизненную энергию богиня Моря Огня ( Тьорəс Най Аӈки )» [11 , 33 ].
Очищающие и преображающие свойства, магическая сила Воды и Огня нашли соответствующее осмысление и применение в ритуальной практике, они закреплены в обычаях почитания этих стихий. К ним были обращены молитвы и приносились жертвы, направленные на умилостивление персонифицированных духов воды и огня, символизирующих силы, которые имеют отношение к рождению и смерти, что нашло выражение в быту, семейной обрядности и народной медицине.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ каз. хант. – казымский диалект хантыйского языка;
манс. – мансийский язык;
хант. – хантыйский язык.
ПМА 1992 – Полевые материалы автора. Записи от Марии Кузьминичны Волдиной, 1936 г. р. (урож. д. Юильск Белоярского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), г. Ханты-Мансийск. Январь 1992 г.
ПМА 2014 – Полевые материалы автора. Записи от Марии Кузьминичны Волдиной, 1936 г. р. (урож. д. Юильск Белоярского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), г. Ханты-Мансийск. Март 2014 г.
ПМА 2016 – Полевые материалы автора. Записи от Марии Кузьминичны Волдиной, 1936 г. р. (урож. д. Юильск Белоярского р-на Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), г. Ханты-Мансийск. Февраль 2016 г.
Список литературы Огонь как связующее и трансформирующее начало и вода как символ жизни и смерти в традиционной культуре обских угров
- Генинг, В. Ф. Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры (пьяноборская эпоха III в. до н. э. -II в. н. э.)/В. Ф. Генинг. -Москва: Наука, 1988. -240 с.
- Головнев, А. В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров/А. В. Головнев. -Екатеринбург: УрО РАН, 1995. -606 с.
- Дунин-Горкавич, А. А. Тобольский Север. Этнографический очерк местных инородцев: в 3 т./А. А. Дунин-Горкавич. -Москва: Либерия, 1995. -Т. 1. -376 с.
- Зенько, А. П. Представления о сверхъестественном в традиционном мировоззрении обских угров. Структура и вариативность/А. П. Зенько. -Новосибирск: Наука; Сибирское предприятие РАН, 1997. -160 с.
- Исламов, А. З. Семантика пространства казымских ханты в их мировосприятии/А. З. Исламов. -Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2006. -148 с.
- Каксина, Е. Д. Приметы как источник изучения языка и культуры хантыйского этноса//Этнокультурное и социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера. -Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск», 2013. -С. 141-151.
- Карьялайнен, К. Ф. Религия югорских народов. Т. II./пер. с нем. Н. В. Лукиной. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1995. -284 с.
- Лапина, М. А. Этика и этикет хантов/М. А. Лапина. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1998. -115 с.
- Мифы русского народа/Е. Левкиевская. -Москва: Астрель; АСТ, 2004. -528 с.
- Напольских, В. В. Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении земли//Мировоззрение финно-угорских народов. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. -С. 5-22.
- Песикова, А. С. Взгляд изнутри культуры/А. С. Песикова. -Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2006. -98 с.
- Попова, С. А. Мансийские календарные праздники и обряды/С. А. Попова. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2008. -138 с.
- Попова, С. А. Мансийская обрядность перевода в иной мир//Народы Северо-Западной Сибири. -Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2002. -Вып. 9. -С. 134-161.
- Попова, С. А. Этническая история и мифологическая картина мира манси/С. А. Попова. -Ханты-Мансийск, 2013. -86 с.
- Потпот, Р. М. Символическое значение лексической единицы сўӈ ‘угол’ как фрагмента концепта «Дом» (на материале казымского диалекта хантыйского языка)//Филологические исследования обско-угорских языков: традиции, новации, итоги, перспективы: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции XII Югорские чтения (20 декабря 2013 г., Ханты-Мансийск). -Тюмень, 2014. -С. 81-87.
- Пятникова, Т. Р. Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья/Т. Р. Пятникова. -Екатеринбург: Баско, 2008. -80 с.
- Ромбандеева, Е. И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов)/Е. И. Ромбандеева. -Сургут: АИИК «Северный дом» и Северо-Сибирское регион. кн. изд-во, 1993. -208 с.
- Топоров, В. Н. Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. -Москва: Наука, 1981. -С. 146-162.
- Ултургашева, Н. Т. Культ домашнего очага у тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая//Народная культура Сибири: Материалы IX научно-практического семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. -Омск: Изд-во ОмГПУ, 2000. -С. 23-26.
- Хельберг-Хирн, Е. Живая и мертвая вода//Смерть как феномен культуры: межвузовский сборник научных трудов. -Сыктывкар, 1994. -С. 151-154.
- Чернецов, В. Н. Представления о душе у обских угров//Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. -ТИЭ. Нов. сер. -Москва, 1959. -Т. 51. -C. 114-156.