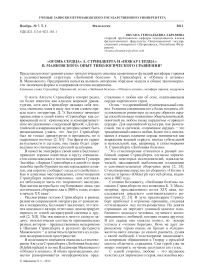«Огонь сердца» А. Стриндберга и «Пожар сердца» В. Маяковского: опыт типологического сравнения
Автор: Абрамова Оксана Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (128) т.1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Представлен опыт сравнительно-типологического анализа семантики и функций метафоры горения в художественной структуре «Любовной болезни» А. Стриндберга и «Облака в штанах» В. Маяковского. Предпринята попытка выявить авторские образные модели и общие закономерности эволюции формы и содержания поэзии модернизма.
Стриндберг, маяковский, поэзия, "любовная болезнь", "облако в штанах", метафора горения, модернизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14750237
IDR: 14750237 | УДК: 821.113.6+821.161.1
Текст статьи «Огонь сердца» А. Стриндберга и «Пожар сердца» В. Маяковского: опыт типологического сравнения
О поэте Августе Стриндберге говорят редко, он более известен как классик мировой драматургии, хотя сам Стриндберг называл себя поэтом, очевидно, имея в виду под этим словом прежде всего литератора. Д. Э. Беллквист начинает предисловие к своей книге «Стриндберг как современный поэт: критическое и компаративистское исследование» следующей фразой: «Для английской и американской аудитории может быть неожиданным узнать, что Август Стриндберг был не только драматургом и прозаиком, но и одаренным поэтом» [2; ХI]1. Эта фраза не теряет актуальности и сегодня, она также будет справедлива по отношению к русской аудитории.
В качестве эпиграфа к своей книге Беллквист приводит хорошо известные в кругу специалистов слова шведского поэта-модерниста Гуннара Экелёфа: «Лирика Стриндберга в какой-то мере подобна пробе бурения на месторождении алмазов, она коротко сообщает о всех его свойствах». Как и алмазные месторождения, стихотворения Стриндберга немногочисленны, они составляют небольшую часть его творческого наследия. При жизни автора было опубликовано лишь три поэтических сборника: два в 1880-х годах и один в начале XX века2.
Рассматривая поэзию Стриндберга в рамках развития современной литературы от романтизма к модернизму, Беллквист заключает, что поэзия шведского автора отчетливо демонстрирует переход от одной литературной системы к другой [2; XII]. Мы поставили в чем-то схожую задачу: типологически соотнести принципиально разных авторов - предшественника модернизма в Швеции Стриндберга и русского футуриста Маяковского - и попытаться прочитать их в едином модернистском пространстве.
В поле нашего внимания оказались стихотворение Августа Стриндберга «Любовная болезнь» (Kärlekssjukan) и поэма Владимира Маяковского «Облако в штанах». В обоих произведениях сю-жетно разворачивается метафорическое пред- ставление о любви как об огне, охватывающем сердце лирического героя.
Огонь - это древнейший и универсальный символ. Условное соединение его с более поздним, обусловленным развитием культуры образом сердца способствовало появлению общечеловеческой, понятной на любом языке парадигмы «горящего сердца». Для европейской культуры, как религиозной, так и светской, «пламенное сердце» - это традиционный символ любви. Более того, находящееся в языках пламени сердце понимается как выражение высшей страсти, иногда губительной и непосильной, как, например, в стихотворении А. Стриндберга «Любовная болезнь».
Это стихотворение относится к ранней любовной лирике Стриндберга, согласно характеристике некоторых исследователей, идеалистической, насыщенной шаблонными излишками и сентиментальными оборотами речи [2; 24]. Стихотворение известно по сборнику «Поэзия в стихах и прозе» (Dikter på vers och prosa), изданном в 1883 году.
Согласно Беллквисту, «Любовная болезнь» написана Стриндбергом под влиянием Б. Э. Маль-мстрёма, прославленного поэта XIX века, последователя шведского сентиментального романтизма [2; 23]. В духе предмодерна Стринд-берг прибегает к игровому принципу, создавая «стилизацию» под поэта-романтика. На девяти страницах он передает длинный монолог влюбленного молодого человека, мучимого воспоминаниями о любимой, которая отдана другому. В его сердце она «зажгла огонь», но вскоре уплыла к «чужим берегам». Ночь не дает лирическому герою покоя, он бродит в «бледножелтом свете лампы» до самого рассвета, думая о своей любимой. Стихотворение заканчивается непрямым обращением к Творцу с просьбой светом облегчить страдания. Сам герой уже не может говорить: мучение заглушило его голос.
С одной стороны, любовь - это желаемое чувство для лирического героя, она подобна вес- не, пробуждающей все к жизни. Стихотворение открывается пейзажной зарисовкой, отображающей внутреннее состояние лирического героя: на дворе май, но с неба падает снег, черемуха печально качает белыми локонами, а тюльпаны закрываются от холода. Вдруг появляется жаворонок (возлюбленная героя), который приносит с собой весну (любовь), и все преображается. Однако жажда весны и любви сменяется муками: любовная болезнь нарушает покой лирического героя, вводит его в состояние тревоги и невыносимой тоски. Он восклицает: «Жестокая, ты зажгла огонь в моем сердце, где только что был мир. Погаси его! О, погаси его скорее, иначе я сгорю!» [3; 170]. Здесь проявляется мортальная эстетика в духе декаданса: стремление к покою, боязнь огня как стихии движения и обновления.
С другой стороны, огонь у Стриндберга может быть согревающим пламенем, включенным в ассоциативный ряд «огонь - очаг - любовь», где его хранилищем, домом, выступает сердце. Огонь любви, зажженный возлюбленной лирического героя, характеризуется как священный, согревающий. Традиционная формула горения восходит у Стриндберга к очагу, но он оказывается призрачным, несостоявшимся. В момент разлуки огонь становится безудержным, разрушительным, невыносимым, вырывая у лирического героя мольбу: «Погаси!»
Двойственность желания (весны и покоя; любви и тушения «сердечного огня»), меланхоличность, сосредоточенность на собственных переживаниях, экспликация их на природные феномены - эти характеристики лирического героя, равно как и мотивный ряд (мотив утраченной любви, мотив бегства, мотив смерти от любви), встраивают стихотворение Стриндберга в романтическую традицию. Однако в общей картине есть явные модернистские черты (призрачность любовного очага, бренность жизни, мортальная семантика).
Несколько десятилетий спустя вечный лирический сюжет получит у русского футуриста В. Маяковского совершенно иное звучание. В поэме «Облако в штанах» (1915) так же, как и у Стриндберга, мы встречаем молодого человека, переживающего несчастную любовь. Его возлюбленная украдена, словно Джоконда, она выходит замуж за другого. В сердце лирического героя бушует пожар, который приводит его к экзистенциальному бунту.
В амбивалентной природе огня, жизнетворящей и разрушительной, модернистская концепция актуализирует деструктивную функцию, которая становится предпосылкой катарсического возрождения. Для футуриста Маяковского творчество - это воплощение огненной стихии, уничтожающей мир, как он есть, и тем готовящей мир, каким он должен быть. Он жаждет огня, озабочен пыланием, но не в декадентском духе (упо ение самим процессом сгорания), а в футуристическом: огонь - это залог новой будущности.
Когда разыгрывается эпизод тушения пожара, лирический герой противится тому, чтобы его пожар тушили:
Люди нюхают -запахло жареным! Нагнали каких-то. Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным: на сердце горящее лезут в ласках. Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу [1; 180].
В поэме «Облако в штанах» центром развертывания лирического сюжета становится метафора «пожар сердца», она призвана обозначить кульминацию. Отсутствие начала «пожара» и его окончания говорит о том, что «состояние горения» - это катастрофическое, но и единственно возможное существование поэта-футуриста.
«Пожар сердца», эмблемирующий «духовное творчество», перерастает из символа любви в символ ненависти. Огонь необходим не только для того, чтобы осветить путь в идеальное будущее, но и «выжечь» прошлое, включая его духовные и этические ценности:
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять тысячу тысяч Бастилий! [1; 185].
В этих строчках прочитываются богоборческие тенденции, реализуемые в полной мере в четвертой части поэмы.
Метафора «пожар сердца», заданная любовной фабулой, выстраивает в поэме «Облако в штанах» целый метафорический сюжет, который завершается тем, что лирический герой несет свое кровоточащее сердце к «дому отца», к Богу (у Стриндберга герой также в конце обращается к Творцу). Но возвращению «блудного сына» не суждено состояться. Боль отвергнутой любви и отвергнутой поэзии толкает героя на бунт против Творца, и в этом крике протеста проявляется трагизм вселенского одиночества лирического героя. Стихия огня пронизывает художественную ткань поэмы, воплощая собой и яростное пламя уничтожения (любовь порождает страдания, а страдания -бунт), и очищающий огонь любви и самопознания, актуализирующий творческое начало.
Казалось бы, один сюжет (несчастная любовь), разыгрывается один и тот же культурный инвариант («горящее сердце»), оба текста содержат схожие синтаксические элементы, но Стриндберг и Маяковский находятся на разных полюсах модернизма. Временная дистанция между этими двумя авторами и между двумя рассматриваемыми произведениями велика. Стриндберг, ярчайший представитель европей-
«Огонь сердца» А. Стриндберга и «Пожар сердца» В. Маяковского: опыт типологического сравнения
ской культуры, в русле декадентской эстетики играет с поэтическим клише. Он представляет приватную ситуацию в психологическом ключе. Огонь у Стриндберга восходит к очагу, он согревающий, священный - в этом его положительный смысл. В то же время огонь, превратившись в пожар, может быть невыносимым, губительным, тогда он переходит в ряд негативных явлений. Маяковский же встраивает «пожар сердца» в футуристическую модель, разворачивая личную драму в космогонический масштаб. У него пожар, хоть и болезненное, но единственно возможное и желаемое состояние творческого движения. Футуризм не принимает формулу очага, культурная подпитка для него неприемлема. Если у Стриндберга мы обнаруживаем тесную связь с природным и опосредованную связь с божественным, то у Маяковского трансцендентных источников подпитки пламени нет, а солнце умаляется до «монокля»:
От вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетия слеза лилась, уйду я, солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз [1; 187].
Если у Стриндберга огонь в сердце лирического героя появляется благодаря его возлюбленной («Ты зажгла огонь в моем сердце»), то лирический герой Маяковского самовозгорается, идет и жжется, подпитываемый всеми земными «любовями» и «любятами».
Так на примере двух стихотворений двух далеких и в национальном, и во временном планах авторов мы наблюдаем переход от камерности и созерцательности предмодерна к действенной модели авангарда, разлагающей мир до основания и через поэтический синтез ищущей его новый лик.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы «Огонь сердца» А. Стриндберга и «Пожар сердца» В. Маяковского: опыт типологического сравнения
- Маяков ский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т./АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Худож. лит., 1959. Т. 1. 463 c.
- Bellquist J. E. Strindberg As a Modern Poet: A Critical and Comparative Study. Berkeley; Los Angeles; London, 1986. XVII+181 p.
- Strindberg A. Samlade skrifter. D. 13, Dikter pâ vers och prosa; samt Sömngängarnätter pâ vakna dagar. Stockholm, 1913. 329 s.