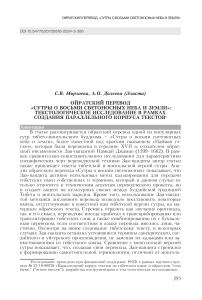Ойратский перевод "Сутры о восьми светоносных неба и земли": текстологическое исследование в рамках создания параллельного корпуса текстов
Автор: Мирзаева С.В., Долеева А.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (70), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ойратский перевод одной из популярных сутр тибето-монгольского буддизма - «Сутры о восьми светоносных неба и земли», более известной под кратким названием «Найман гэ-гээн», которая была переведена в середине XVII в. создателем ойратской письменности Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599-1662). В рамках сравнительно-сопоставительного исследования для характеристики специфических черт переводческой техники Зая-пандиты автор статьи также привлекает тексты тибетской и монгольской версий сутры. Анализ ойратского перевода «Сутры о восьми светоносных» показывает, что Зая-пандита активно использовал метод калькирования для передачи тибетских имен собственных и терминов, который в данном случае не только относится к техническим аспектам переводческого процесса, но и создает акцент на культурных связях между буддийской традицией Тибета и монгольских народов. Кроме того, использование Зая-пандитой методики дословного перевода позволило восстановить некоторые имена, отсутствующие в известной нам тибетской версии сутры, на материале ойратского текста. Стремясь отразить как звучание оригинала, так и его смысл, переводчик иногда прибегал к транскрибированию или транслитерации тибетских слов, а также комбинированию их с буквальным переводом, если соответствия в языке перевода имелись лишь частично. Несмотря на явное следование тибетскому тексту, в некоторых случаях Зая-пандита оставлял устоявшиеся термины санскритского, согдийского и уйгурского происхождения, не заменяя их кальками или заимствованиями из тибетского языка. Сравнение с монгольской версией сутры показывает, что, создавая свои переводы, Зая-пандита стремился к формированию самостоятельной терминологии, отличной от монгольской, тем самым укрепляя свою культурную и языковую идентичность в контексте буддийского текстотворчества. В заключении статьи приведены два списка имен восьми великих бодхисаттв, которые могут быть полезны в дальнейшей работе по систематизации буддийской терминологии на русском языке, что в конечном итоге будет способствовать более глубокому пониманию буддийской традиции и ее разнообразия.
«сутра о восьми светоносных неба и земли», версия в, ойратский перевод, зая-пандита намкай джамцо, тибетская версия, переводческая техника, дословный перевод, калькирование
Короткий адрес: https://sciup.org/149146754
IDR: 149146754
Текст научной статьи Ойратский перевод "Сутры о восьми светоносных неба и земли": текстологическое исследование в рамках создания параллельного корпуса текстов
The “S u tra of Eight Luminous of Heaven and Earth”; version B; Oirat translation; Jaya-pa nd ita Nam-mkha’ rgya-mtsho; Tibetan version; translating techniques; literal translation, calquing.
Корпусная лингвистика — относительно новое направление в науке, которое находит применение в таких областях академического востоковедения, как монголоведение и тибетология. В первую очередь речь идет о национальных языковых корпусах современных калмыцкого и бурятского языков, которые отличаются большим объемом данных и были реализованы в рамках различных научных проектов (см., например, проект РГНФ № 12-04-12047/в «Национальный корпус калмыцкого языка: создание и разработка»). Один из репозиториев подобных корпусов — лингвистическая платформа Lingvodoc, которая предоставляет возможность изучать языки народов России, в том числе относящиеся к монгольской языковой семье. Эта платформа обладает широким инструментарием для проведения филологических исследований. В настоящее время функционал платформы также включает опцию создания двуязычных параллельных корпусов, которая была разработана в рамках научного проекта РНФ «Параллельный корпус текстов на тибетском языке и ойратском “тодо бичиг” (“ясное письмо”): разработка инструментария и текстологические исследования».
Создание такого инструмента представляется важным для изучения переводных памятников на ойратском «ясном письме», которую составляют значительную часть письменного наследия монгольских народов. Различные аспекты текстологических исследований сочинений на «ясном письме» в сравнении с тибетскими оригиналами уже затрагивались в ряде публикаций [Цендина 2001; Музраева 2013; Музраева 2020; и др.]. В настоящей статье будет предпринята попытка анализа языковых особенностей ойратского перевода «Сутры о восьми светоносных неба и земли» [Xutuq xarsiyin.], выполненного Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599—1662), в сравнении с тибетским оригиналом [Gnam sa snang.] и в отдельных случаях — с монгольской версией сутры [Qarsi jasaqu.]. Тибетский и ойратский тексты сутры были загружены на платформу Lingvodoc perspective/9726/2/view).
«Сутра о восьми светоносных неба и земли» (тиб. ‘phags pa gnam sa snang ba brgyad / snang brgyad kyi mdo / sangs rgyas kyi chos gsal zhing yangs pa snang brgyad ces bya ba’i mdo, сокращ. snang brgyad; монг. qutuγ-tu oγtarγui γaǰar-un naiman gegen neretü yeke kölgen sudur / qarsi jasaqu naiman gegegen neretu sudur, ойр. xutuqtu oqtorYui yazariyin nayiman gegen / xarsiyin jasaqu nayiman gegёni sudur, сокращ. nayiman gegen) — махаянская дхарани-сутра, вероятно, китайского происхождения, получившая широкое распространение в письменной традиции тибето-мон-гольского буддизма. Эта сутра, наряду с другими текстами этого жанра, была включена в буддийский канон (Кагьюр / Ганджур) и в коллекции обрядовых текстов (сборники «Сундуй» и «Доманг»). Стоит отметить, что в китайской традиции эта сутра относится к апокрифам, т.е. считает- ся не-истинным словом Будды, поскольку содержит элементы даосизма. Несмотря на то, что тексты данной сутры представлены практически в любой рукописной коллекции монгольских и ойратских текстов, исследователями рассматривались в основном монгольские переводы, ойрат-ские переводы ранее не выступали предметом научного исследования, за исключением отдельных публикаций С.В. Мирзаевой и О. Србы [Срба 2017; Мирзаева 2022а; Мирзаева 2022b].
Было установлено, что среди ойратских переводов сутры, выполненных Зая-пандитой, представлена только одна версия сутры (версия B), которая также включена в сборники «Сундуй» и «Доманг» и имеет ритуальную направленность [Мирзаева 2022а, 396]. По содержанию данная версия сутры представляет собой диалог Будды с учеником Асангой, в котором Будда описывает космологическую модель буддийского мироздания и обитающих в ней существ восьми классов — хозяев местности, нагов, духов ньен и пр., которых необходимо умилостивлять чтением данной сутры, чтобы они не приносили вред людям и не насылали болезни. В конце ойратского текста после стандартной для сутр заключительной фразы о том, что все слушатели воздали хвалу словам Будды, идет перечень сакральных формул для нейтрализации различных болезней и вредоносных воздействий, каждая из которых сопровождается комментарием, на что она направлена. Интересно отметить, что в тибетской версии сутры данный перечень отсутствует. Ойратская версия сутры завершается колофоном, в котором указывается, что Зая-пандита составил данный перевод по просьбе упасики Дары, которая идентифицируется исследователями как Юм Агас, супруга Батура-хунтайджи и мать Галдан-Бошогту-хана [Лувсанбалдан 1975, 132—133]. Таким образом, ойратский текст сутры изобилует антропонимами и терминами, относящимися к буддийской космологии, и с этой точки зрения является ценным источником для характеристики техники дословного перевода, которой, по общепринятому мнению [Яхонтова 1986; Цендина 2001; Музраева 2013], придерживался Зая-пандита.
Для проведения данного исследования тексты тибетской и ойрат-ской версий сутры в транслитерированном виде, оформленные в соответствии с правилами проекта, в формате .txt были загружены на платформу Lingvodoc через опцию «Импорт параллельных корпусов» . После этого программа автоматически сегментировала тексты, разделив их на предложения и выполнив «выравнивание», т.е. выстроив их параллельно (тибетский — ойратский), значительно облегчая таким образом проведение сравнительно-сопоставительных исследований разноязычных версий буддийских сочинений. Как подчеркивает Д.Н. Музраева, именно переводы Зая-пандиты как образцы техники дословного перевода «как нельзя лучше подходят для создания параллельных корпусов. Это объясняется не только индивидуальной переводческой техникой самого ойратского просветителя, но и общим подходом к переводам, которым руководствовались просвещенные ламы XVI—XVIII вв., а именно стремлением максимально точно передать переводимый текст, который расценивался как слова, произнесенные самим Буддой, поэтому в него нельзя было добавлять лишнее и не допускались пропуски» [Музраева 2023, 335]. Рассуждая о мотивации Зая-пандиты, создававшего тексты, которые без обращения к оригиналу понять очень затруднительно, когда даже на уровнях морфологии и синтаксиса нарушается структура языка перевода, Н.В. Ямпольская считает, что переводчик не искал правильный смысл в монгольском / ойратском тексте, и непонятность созданного им текста (возможно, даже в силу его собственного ошибочного понимания текста) не беспокоила его. Значимость единства формы и содержания канонического текста касалась именно языка писания, т.е. тибетского [Yampolskaya 2015, 766-767].
Переводческая техника Зая-пандиты, основные принципы которой рассмотрены в публикациях А.Д. Цендиной, Н.С. Яхонтовой, Д.Н. Музраевой и др. [Яхонтова 1986; Цендина 2001; Музраева 2013], характеризуется в первую очередь максимальным следованием языку тибетского оригинала: «Он не прибавляет и не выкидывает слов. Он часто нарушает порядок слов, нормативный для монгольского предложения, желая приблизить перевод к оригиналу. Он скупо использует грамматические средства монгольского языка (суффиксы падежей, множественного числа, притяжания), если для этого нет «указаний» в тибетском тексте. Он допускает неясный, непонятный перевод, когда сталкивается с тибетскими идиомами или специфическими выражениями» [Цендина 2001, 61]. Эта методика была впоследствии абсолютизирована в XVIII— XIX вв. в процессе подготовки монгольского перевода канонического свода Данджур, что нашло отражение в терминологическом словаре «Источник мудрецов», который предписывал использование калькированного перевода при передаче имен собственных и единой общепринятой, прописанной в словаре, терминологии на монгольском языке, эквивалентной тибетской [Музраева 2013, 20— 32].
Анализ языка ойратского перевода «Сутры о восьми светоносных» показывает, что Зая-пандита активно использует метод калькирования при передаче тибетских имен собственных и терминов:
|
(1) ойр. cenggelgeni веселье-GEN тиб. rol pa ' i игра- GEN ‘семь услаждающих океанов’ |
dol o n семь mtsho озеро |
dalai океан bdun семь |
||
|
(2) ойр. тиб. ‘великий |
yeke большой skyong byed защищать защитник’ |
tedkьn защищать-CV. MOD chen po делать |
uyileduqci делать-PC.PRS большой |
|
|
(3) ойр. тиб. |
bu ebdere не портиться-IMP ma ' khrug cig не тревожить |
-IMP |
||
‘не тревожь’
-
(6) ойр. oqtor Y uyin ong Y oco
небо-GEN лодка тиб. nam [=gnam] gru небо лодка букв. ‘небесная лодка’, ‘Ревати’ (созвездие)
-
(7) ойр. osol izourtu
небрежность происхождение-ASSOC тиб. gdol pa'i rigs изгой происхождение
‘относящиеся к варне неприкасаемых’ (интересно отметить, что в монгольской версии сутры названия двух высших варн брахманов и кшатриев переведены как qa Y an i j a Y ur-tu букв. ‘ханского (хаганского) происхождения’ (в ойратском переводе — x a n izourtu , соответствует тиб. rgyal rigs ) и qan i j a Y ur-tu букв. ‘ханского происхождения’ (в ойратском переводе — ezen izourtu , соответствует тиб. rje rigs ): см. дискуссию о различиях в семантике терминов qa Y an и qan [Шастина 1949, 391; Кара 1974, 113; Гедеева 2021, 1309—1310].
При сравнении с монгольским текстом сутры становится очевидным стремление Зая-пандиты выработать собственную терминологию, отличную от монгольской: во всех перечисленных примерах в аналогичных фрагментах монгольской версии мы имеем другие варианты перевода: (1) dolo Y an sid na Y ur , (2) yeke uiles-un qan , (3) buu qarsilatu Y ai , (4) orod maqabod , (5) Virubagsa , (6) nam guru , (7) c andali i j a Y ur-tu . Если в первых четырех примерах отличие заключается в выборе других синонимичных лексем для перевода тибетского термина, то примеры №№ 5—7 демонстрируют такую специфическую черту переводческой техники Зая-пандиты, как упор на тибетский язык как язык буддийского писания, а не уйгурский и санскрит, что характерно для ранней монгольской переводной литературы. Другими словами, во всех перечисленных случаях Зая-пандита заменяет фонетические заимствования из санскрита, уйгурского и тибетского языков калькированным переводом тибетского термина.
Следующий способ передачи имен собственных, используемый Зая-пан-дитой, — это транскрибирование / транслитерирование тибетской лексемы:
-
(1) ойр. bhinuraza — тиб. bi ru r a dza
-
(2) ойр. bringgi-ridi — тиб. bhrid gi ri ti
-
(3) ойр. krusin — тиб. gro zhun / gro bzhin
-
(4) ойр. bsang saben-ba — тиб. gza’ spen pa
-
(5) ойр. mon gre — тиб. mon gre
-
(6) ойр. mon gru — тиб. mon gru
Примеры №№ 1—3 демонстрируют способы переводческой транскрипции — пофонемного воссоздания исходной тибетской лексемы с помощью фонем ойратского письма, в некоторых случаях в искаженном виде; примеры №№ 4—6 относятся к транслитерированию, т.е. побуквенному воссозданию тибетской лексемы с помощью знаков «ясного письма». Сравнение с монгольским текстом сутры показывает, что в нем представлен только метод транскрибирования: (1) Virara j a , (2) Garudi tngri (?), (3) bau-a sang ba , (4) mon giri , (5) mon guru , (6) sisun . Обычно при переводе данный метод применяется для передачи звучания слов без предоставления их значений. Первые два примера представляют собой искаженные формы санскритских слов, которые поддаются интерпретации лишь частично (в первом слове это компонент r a j a ‘царь’, во втором — возможно, r i ti ‘манера, стиль, образец’). Как в монголоязычных, так и в тибетских словарях эти имена отсутствуют, поэтому определить, к каким божествам они относятся, очень затруднительно: лишь имя Бхрингирити, предположительно, можно отнести к одному из имен божества Гаруды, поскольку в монгольской версии сутры в аналогичном фрагменте текста упоминается Гаруда (монг. Garudi tngri ). Таким образом, можно предположить, что эти имена были незнакомы и Зая-пандите, поэтому он решил оставить их без перевода. Что касается примеров №№ 3—6, они являются переводами санскритских названий созвездий Абиджи (санскр. abiji ) (пример № 3), Дхаништха (от санскр. dhani st h a ) (пример № 5), Сатабхисак (от санскр. satabhisak ) (пример № 6), в примере № 4 представлен перевод названия планеты Сатурн (санскр. s ani ). Дословный перевод с тибетского данных терминов очень сложен, поскольку входящие в их состав слоги или не переводятся по отдельности, или их буквальный перевод лишь запутает того, кто читает текст. В таких случаях Зая-пандита принимает решение оставить тибетский вариант термина, передав его графическую форму знаками «ясного письма».
Также Зая-пандита в своем переводе прибегает к сочетанию транскрибирования / транслитерирования и дословного перевода, что в монгольском переводе сутры отсутствует. Приведем несколько примеров:
-
(1) ойр. yoqbo bal y asuni tenggeri — тиб. mgar la yug pa
-
(2) ойр. labtu — тиб. la can
-
(3) ойр. m c ong bur y asun yeke labai talatu — тиб. ‘phyong gi lcong mo la dung gi ‘dab ma can
-
(4) ойр. tegerun xatun — тиб. the khyim btsun mo
-
(5) ойр. seyin dedui-gi medeq c i — тиб. se ba bla mkhyen
-
(6) ойр. ny e vo erdeni — тиб. gser nye bo
В первом примере ойр. yoqbo является искаженной фонетической калькой тиб. yug pa, ойр. balYasuni tenggeri — скорее всего, дословный перевод тиб. mkhar lha (вероятно, один из вариантов написания mgar la в тибетском тексте сутры). Во втором примере тиб. la в ойратском переводе транскрибировано как lab, частица обладания тиб. can передана формой совместного падежа — tu. В примере № 3 тиб. ‘phyong, транслитерировано как mcong (вероятно, в тибетском оригинале, с которого делал перевод Зая-пандита, было другое написание mchong), тиб. Icong mo переведено как buryasun ‘ива’ (опять же, в тибетском исходном тексте, вероятно, было другое написание lcang mo ‘ива’), тиб. Dung — как labai ‘раковина’, тиб. ‘dab ma can ‘с листьями, крыльями’ — как talatu ‘имеющий сторону, лист’. В ойратском переводе также есть слово yeke ‘большой, великий’; учитывая определенную педантичность ойратского просветителя в переводе, не допускавшего опущений или вставок в тексте, можно предположить, что в той тибетской версии, с которой выполнял перевод Зая-пандита, рассматриваемое имя содержало также компонент che / chen po с аналогичным значением.
Примеры №№ 4—5 содержат имена, идентификация которых оказалась очень сложной, поскольку в тибетской версии они отсутствуют, а ой-ратские варианты имен невозможно перевести полностью без знания исходного тибетского варианта. Имена были определены после обращения к тибетскому сочинению «Вайдурья-карпо» («Белый берилл»), в одном из разделов которого описывается категория хозяев местности садак (тиб. sa bdag ). Ойр. tegerun xatun оказалось переводом тиб. the khyim btsun mo , т.е. тиб. the транскрибировано в ойратском как te , тиб. khyim ‘дом’ переведено как ger , btsun mo ‘царица’ — как xatun . Сложность заключается в том, что две лексемы te и ger с показателем генитива написаны слитно как одно слово и переведены с использованием разных методов — транскрибирования и буквального перевода. Аналогичный случай имеем с именем ойр. seyin dedui-gi medeq c i , идентифицированного как имя астролога Сэва-лачена (тиб. se ba bla mkhyen ): ойр. seyin искаженно передает тиб. se без частицы-субстанти-ватора ba , к которому добавлен аффикс генитива -yin , ойр. dedui-gi medeq c i представляет собой дословный перевод тиб. bla mkhyen . Последний пример является нестандартным для техники Зая-пандиты, поскольку компоненты имени переставлены местами, если сравнивать с тибетским оригиналом (ойр. ny ё vo , соответствующее тиб. nye bo , стоит в начале имени, тогда как в тибетском имени наоборот), и ойр. erdeni ‘драгоценность’ является скорее описательным переводом тиб. gser ‘золото’.
Использование Зая-пандитой данного приема сочетания транскрибирования / транслитерирования и дословного перевода, на наш взгляд, можно объяснить тем, что в данной группе антропонимов — имен различных хозяев местности и других духов, связанных с древними тибетскими родами (Дж. Туччи, например, пишет о том, что класс духов му (тиб. dmu ) имеет параллели с древними тибетскими родами (в число которых входят му (тиб. rmu ), сэ (тиб. se ), дон (тиб. ldong ) и тон (тиб. stong )) и определенными священнослужителями [Tucci 1949, 714—715]), сохранилась архаичная лексика, которая к XVII в. уже с трудом поддавалась пониманию и соответственно переводу на другие языки, и поэтому в таких случаях переводчики предпочитали передачу фонетического звучания или графического написания таких слов средствами своего языка.
Детальный анализ способов перевода имен собственных, использовавшихся Зая-пандитой, на материале его ойратского перевода в сравнении с сохранившейся тибетской версией сутры, показывает, что тибетский ис- ходный текст, на который Зая-пандита опирался при переводе, отличался от нее, что подтверждает общие выводы в публикации С.В. Мирзаевой, в которой рассматривалась сюжетно-композиционная структура ойратской версии «Сутры о восьми светоносных» [Мирзаева 2022а]. Кроме того, различия в написании отдельных слов в тибетском тексте сутры из «Сун-дуя» и не сохранившемся до нашего времени исходном для Зая-пандиты тексте, восстанавливаемом на основе ойратского перевода, могут служить подтверждением мнения ряда исследователей о том, что Зая-пандита переводил с тибетского устно, после чего текст записывали писцы [Kara 2005, 216—217]. Рассмотренные слова, как правило, имеют единое фонетическое звучание, но пишутся по-разному, что связано с наличием в тибетском письме определенного набора предписных, надписных, подписных графем, которые в сочетании с корневой графемой читаются одинаково.
Характеризуя такую особенность переводов Зая-пандиты, как опора на тибетский язык как язык писания, которая определила специфику всей его переводческой техники дословного перевода, тем не менее, следует указать, что в ряде случаев он оставляет закрепившиеся в буддийской терминологии санскритизмы и уйгуризмы, не заменяя их кальками с тибетского, например:
-
(1) ойр. bisni — тиб. khyab ‘jug ‘Вишну’
-
(2) ойр. Xormusta — тиб. brgya byin ‘Индра’
-
(3) ойр. esrua — тиб. tshangs pa ‘Брахма’
В первом примере ойратское написание представляет собой искаженную форму санскритского Vi sn u , во втором и третьем — заимствования из согдийского через посредство уйгурского Azrua [Древнетюркский словарь 1969, 76] и X ormuzta [Древнетюркский словарь 1969, 637]. В одной из предыдущих публикаций автора статьи в результате анализа четырех списков ойратского перевода сутры было установлено, что для ранних списков характерно использование уйгуризмов, которые впоследствии стали заменяться заимствованиями из тибетского языка [Мирзаева 2022б]. Рассматриваемый в статье список в данном аспекте можно отнести к ранним: приведем пример, когда в ранних списках используется уйгурское слово labai ‘раковина’ (заимствовано из китайского языка), которое в более поздних списках заменяется на заимствование из тибетского языка dung с аналогичным значением, см., например, ойр. labtai [ прав. labai ] tedkuqci — тиб. dung skyong (букв. ‘защищающий раковину’), ойр. m c ong bur Y asun yeke labai talatu — тиб. ‘phyong, gi Icong mo la dung gi ‘dab ma can (букв. ‘прыгающий головастик с крыльями [цвета] раковины’). Как уже было указано выше, практика использования уйгурских заимствований, характерная для монгольских переводных сочинений раннего периода, в XVII—XVIII вв. постепенно сменилась правилом больше ориентироваться на тибетский язык, которое было прописано в лексикографических трудах, составлявшихся для перевода буддийского канона на монгольский язык, в первую очередь в вышеупомянутом терминологическом словаре «Источник мудрецов».
В заключение мы бы хотели привести два перечня имен восьми великих бодхисаттв на ойратском, монгольском и тибетском языках, которые содержатся в рассматриваемых в статье текстах «Сутры о восьми светоносных», с указанием оригинального санскритского написания. Создание подобных глоссариев на материале отдельных буддийских памятников представляется важным для дальнейшей разработки единой базы данных буддийской терминологии монголоязычнытх сочинений, составляющих значительную часть буддийского письменного наследия (см., например, научный проект «Буддийская терминология монгольских переводных сочинений»). Кроме того, данные списки, на наш взгляд, наглядно продемонстрируют, что варианты перевода, предложенные Зая-пандитой, отличались от существовавшего уже в то время монгольского перевода сутры. Первый перечень содержит имена «восьми великих сыновей [Будды]» (санскр. asta utaputra, тиб. nye ba’i sras brgyad):
-
1) ойр. o y tor y uyin zurken — монг. o y tar y ui-yin jiruken — тиб. nam mkha’i snying po — санскр. A k as agarbha ‘Акашагарбха’;
-
2) ойр. y azariyin zurken — монг. y a j ar-un J irьken — тиб. sa’i snying po — санскр. K s itigarbha ‘Кшитигарбха’;
-
3) ойр. tuyidker teyin aril y aq c i — монг. Nigul tuidker-i aril y a yc i — тиб. sgrib pa rnam par sel ba — санскр. Sarvaniv a ra n avi s kambhin ‘Сарвани-варанавишкамбхин’;
-
4) ойр. Samanda Bhadara — монг. Samantabadari — тиб. kun tu bzang po — санскр. Samantabhadra ‘Самантабхадра’;
-
5) ойр. Mayidari — монг. Mayidari — тиб. byams pa mgon po — санскр. Maitreya ‘Майтрейя’;
-
6) ойр. Manzusri — монг. Man j usiri — тиб. ‘jam dpal — санскр. Maсju s r T ‘Манджушри’;
-
7) ойр. Nidu-b e r uzeqci — монг. Ariy-a Avalokita isvari — тиб. spyan ras gzigs dbang phyug — санскр. Avalokite s vara ‘Авалокитешвара’;
-
8) ойр. O c irop an i — монг. V c irpani — тиб. phyag na rdo rje — санскр. Vajrap an i ‘Ваджрапани’.
Второй список, представляющий собой сокращенную версию перечня десяти главных учеников Будды, не так широко известен в буддологии, кроме того, он немного отличается от известных в литературе и наиболее близок с перечнем, содержащимся в сочинении «Ман-джушри-мула-кальпа» (санскр. Maсju s r T -m й la-kalpa), но отличается от него последовательностью имен, а также содержит имена учеников Упали и Анируддхи и не включает имена Рахулы и Нанды [Ray 1994, 205, примеч. 2b]. Ниже приведем второй перечень имен главных учеников Будды, содержащийся в «Сутре о восьми светоносных»:
-
1) ойр. sariyin koboun — монг. Saribudari — тиб. sh a ri’i bu — санскр. Sa riputra ‘Шарипутра’;
-
2) ойр. moloni toyin — монг. Molon toyin — тиб. mao+dgal gyi bu — санскр. Maudgaly a yana ‘Маудгальяяна’;
-
3) ойр. gerel sakiq c i — монг. Gerel-tu — тиб. ‘od srungs — санскр. K as ya-pa ‘Кашьяпа’;
-
_4 ) ойр. a nanda — монг. Varuda [=Ananda] — тиб. kun dga’ bo — санскр. A nanda ‘Ананда’;
-
5) ойр. ed bariq c i — монг. Sang bari yc i — тиб. nor ‘dzin — санскр. Bhadri-ka ‘Бхадрика’;
-
6) ойр. c ixula nokur — монг. nqkw c a y ata — тиб. nye ba ‘khor — санскр. Up a li ‘Упали’;
-
7) ойр. ese toriduqsen — монг. [ese] toriduYci — тиб. ma ‘gags pa — санс-кр. Aniruddha ‘Анируддха’;
-
8) ойр. subudi — монг. sayitur egusugsen — тиб. rab ‘byor — санс-кр. Subh u ti ‘Субхути’.
Анализ ойратского перевода «Сутры о восьми светоносных» демонстрирует активное использование Зая-пандитой метода калькирования при передаче тибетских имен собственных и терминов, который позволил создать точные эквиваленты, сохраняющие и смысл, и структуру тибетского оригинала, благодаря чему в некоторых случаях можно восстановить отдельные имена собственные, которые отсутствуют в дошедшей до нас тибетской версии сутры. Стремясь передать и звучание оригинала, и его значение, либо будучи незнакомым с определенными именами божеств или терминами, переводчик мог также прибегать к транскрибированию / транслитерированию тибетской лексемы либо комбинированию его с буквальным переводом, если эквиваленты в языке перевода имелись лишь частично. Несмотря на очевидное следование тибетскому оригиналу, в отдельных случаях Зая-пандита оставляет устоявшиеся термины санскритского, согдийского и уйгурского происхождения, не заменяя их кальками или заимствованиями из тибетского языка. Сравнение с монгольской версией сутры показывает, что, создавая свои переводы, Зая-пандита стремился создать самостоятельную, отличную от монгольской, терминологию и таким образом установить и утвердить свою собственную культурную и языковую идентичность в контексте буддийского текстотворчества.
Письменное наследие Зая-пандиты Намкай Джамцо и его учеников продолжает выступать объектом научных изысканий и в настоящее время, одной из ключевых задач которых должны быть поиск и установление первоисточников на тибетском языке, которые Зая-пандита использовал для перевода. Как показывают проведенные исследования, сохранившаяся тибетская версия «Сутры о восьми светоносных» отличается от редакции, с которой выполнял перевод Зая-пандита, как в написаниях отдельных слов, так и на уровне композиционной структуры. Таким образом, исследуя переводной текст, мы получаем возможность ознакомиться с другой версией сутры на тибетском языке, которая была утрачена в тибетской письменной традиции, и в некоторой степени реконструировать ее. Изучение ойратского перевода «Сутры о восьми светоносных» в сравнении с тибетской версией на базе платформы Lingvodoc демонстрирует перспективы подобных текстологических исследований буддийских сочинений на ойратском «ясном письме», входящих в перечень переводов Зая-пандиты, с привлечением тибетских оригинальных текстов.
Список литературы Ойратский перевод "Сутры о восьми светоносных неба и земли": текстологическое исследование в рамках создания параллельного корпуса текстов
- Гедеева Д.Б. Графо-фонетические особенности имени Аюки-хана (на материале калмыцких деловых писем XVII-XVIII вв.). Oriental Studies. 2021. Т. 14. № 6. С. 1303-1312.
- Древнетюркский словарь / ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тени-шев, А.М. Щербак. Л.: Наука, ЛО, 1969. 676 с.
- Кара Д. Поправки к чтению ойратских грамот 1691 г. // Исследования по восточной филологии. М.: Наука, 1974. С. 111-118.
- Лувсанбалдан X. Тод Yсэг, тYYний дурсгалууд [= Ясное письмо и его памятники]. Улаанбаатар: ШУАХ, 1975. 356 х.
- а) Мирзаева С.В. Ойратский перевод «Сутры о восьми светоносных неба и земли»: к вопросу о композиционной структуре // Новый филологический вестник. 2022. № 2(61). С. 394-412.
- b) Мирзаева С.В. Ойратская версия «Сутры о восьми светоносных неба и земли»: некоторые замечания о переводческой технике Зая-пандиты // Новый филологический вестник. 2022. № 4(63). С. 411-422.
- Музраева Д.Н. Проблемы изучения ойратских и монгольских переводов тибетских буддийских текстов и перспективы их использования в составлении параллельных корпусов // Новый филологический вестник. 2023. № 3(66). С. 326-338.
- Музраева Д.Н. Синтаксические особенности поздних ойратских переводных памятников (на материале рукописи перевода Тугмюд-гавджи O^gurun dalai «Море притч») // Урало-алтайские исследования. 2020. № 4(39). С. 24-40.
- Музраева Д.Н. Тибето-монгольская повествовательная литература XVII-XVIII вв. Элиста: НПП «Джангар», 2013. 150 с.
- Срба О. «Огторгуй газрын найман гэгээн» судрын асуудалд: «Харш за-сах найман гэгээн» судрын нэгэн шинэ хувилбар [= К вопросу о сутре «Восемь светоносных неба и земли»: новый список сутры «Восьми светоносных, устраняющих неблагоприятствование»] // The Mongolian Kanjur. International Studies / ed.-in-chief S. Chuluun. Ulaanbaatar: Mongolian Academy of Sciences, Institute of History and Archaeology, 2017. X. 224-246.
- Цендина А.Д. Два монгольских перевода тибетского сочинения «Книга сына» // Mongolica-V. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2001. С. 54-74.
- Шастина Н.П. Алтын-ханы в Западной Монголии в XVII в. // Советское востоковедение. Т. VI. М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 383-395.
- Яхонтова Н.С. Влияние тибетского языка на синтаксис ойратских переводов // Mongolica-I. СПб.: Наука, ГРВЛ, 1986. С. 113-117.
- Kara G. Books of the Mongolian Nomads. More than Eight Centuries of Writing Mongolian. Bloomington: Indiana University, 2005. 384 p.
- Ray R.A. Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations. New York: Oxford University Press, 1994. 508 p.
- Tucci G. Tibetan Painted Scrolls. Vol. II. Roma: la Libreria Dello Stato, 1949. 798 p.
- Yampolskaya N. Buddhist Scriptures in 17th Century Mongolia: Eight Translations of the Astasahasrika Prajсaparamita // ASIA. 2015. № 69(3). P. 747-772.