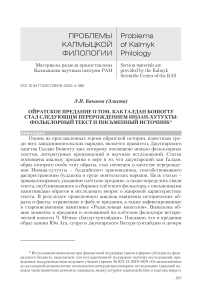Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-Хутухты: фольклорный текст и письменный источник
Автор: Бакаева Э.П.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Одним из прославленных героев ойратской истории, известным среди всех западномонгольских народов, является правитель Джунгарского ханства Галдан Бошогту-хан, которому посвящено немало фольклорных текстов, литературных произведений и научных исследований. Статья посвящена анализу предания о вере в то, что джунгарский хан Галдан, образ которого особо чтят ойраты, стал почитаем в качестве перерождения Инзана-хутухты - буддийского проповедника, способствовавшего распространению буддизма в среде монгольских народов. Цель статьи -проанализировать указанное олётское предание, а также определить связи текста, опубликованного в сборнике олётского фольклора, с письменными памятниками ойратов и исследовать вопрос о жанровой характеристике текста. В результате проведенного анализа выявлены исторические образы и факты, отраженные в фабуле предания, а также зафиксированные в старописьменном памятнике «Родословная монголов». Выявлены общие моменты в предании и основанной на олётском фольклоре исторической повести Ч. Мёнки «Батур-хунтайджи». Показано, что в предании образ ханши Юм Ага, супруги джунгарского Батура-хунтайджи и дочери торгутского Шукур-Дайчина, для которой хошутский Байбагас-хан стал отцом-опекуном, представлен как особо почитаемый: ханша отличается мудростью, умом, знанием разных языков. Освещается вопрос классификации и терминологии в обозначении исторических преданий в фольклорной традиции ойратов, а также вопрос о связи предания с письменным памятником в аспекте неразработанности в монгольской фольклористике проблемы различения жанров.
Фольклор, историческая основа, ойратские предания, юм ага, инзан-хутухта, галдан
Короткий адрес: https://sciup.org/149144365
IDR: 149144365 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-380
Текст научной статьи Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-Хутухты: фольклорный текст и письменный источник
В статье предпринимается попытка анализа исторической основы и жанровых связей олётского предания о событиях, предшествовавших рождению джунгарского Галдана Бошогту-хана, ставшего национальным героем для ойратов.
Источником для исследования послужило предание «О том, как Гал-дан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-хутухты» («Галдан Бошгот Энсэ хутагтын хойт дүр болох нь»), опубликованное в сборнике, включающем образцы устного народного творчества олётов – «Өөлд ар-дын аман зохиол» [Өөлд ардын 2006, 538–540], составителем которого выступил известный знаток и собиратель олётского фольклора Сайнсүүлийн Баттулга, редактором – профессор Х. Сампилдэндэв [Өөлд ардын 2006, 538–540].
Олёты, как известно, – одна из составляющих частей союза Дер-бен-ойратов, они являлись самым крупным подразделением Первого Ой-ратского союза (1437–1502 гг.). Со времени распада Среднего Ойратского союза (1502–1637) термин «олёт» стал заменяться на этноним «джунгар» [Санчиров 2013, 10, 11], который объединял оставшихся в союзе олётов и родственных им дербетов. В настоящее время представители этнической группы олётов, принадлежащей к этнокультурной общности ойратов (западных монголов), компактно проживают в сомоне Эрдэнэбүрэн Коб-доского (монг. Ховд) аймака, в четырех сомонах Архангайского аймака и разрозненно – в других аймаках Монголии [Очир 2016, 146–147], а в КНР – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Автономном районе Внутренняя Монголия (в аймаке Хулун-Буир) [Цыбенов 2015, 95–105].
Активное изучение фольклора ойратов Монголии и КНР началось в последние десятилетия, предпринят ряд публикаций, посвященных устному народному творчеству ойратских народов. В СУАР КНР образцы устного народного творчества ойратов публиковали в журналах «Өрийн цол-мон» (издается с 1957 г.) [Байндала 2020] и «Хан Тенгер» (1981–1993 гг.) [Меняев 2016], разных сборниках. Монгольские ученые подготовили и выпустили сборники фольклора ойратов [Торгууд ардын 2002; Захчин ар- дын 2004; Дөрвөд ардын 2005], в том числе и олётов [Намсрай 1999; Өөлд ардын 2006]; в 1996 г. был издан том, посвященный этнографии ойратов, в котором также освещались вопросы фольклора [Монгол улсын угсаатны зүй 1996]; исследование народной культуры активно продолжается (см., например: [Алтайн урианхайн 2014; Ойрад монголчуудын 2012]), чему способствует и издание многотомной серии «Bibliotheca Oiratica», публикуемой Центром по изучению языка, истории и культуры ойратов «Тод номын гэрэл» (Монголия; рук. Б. Бат-Амгалан, На. Сухбаатар).
Сравнительное изучение традиций легенд и преданий ойратов и калмыков начато Осорин Утнасун [Осорин 2011; Осорин 2015], исследователи анализировали общее и особенное в фольклоре близких народов, в том числе предания, легенды и песни об исторических личностях, которые были известны и среди ойратов, и среди калмыков [Оконов 1984; Бакаева 2022; Бакаева 2023; Селеева 2020]. Одной из таких личностей, известной среди всех ойратских народов, являлся Галдан Бошогту-хан, которому посвящено немало фольклорных текстов и научных исследований, литературных произведений (например: [Галдан Бошигт 2015; Намсрай 2015; Кычанов 1999]). Три легенды и предания о Галдане Бошогту-хане по литературным и полевым источникам приводят в своей публикации Э.У. Ома-каева и Н.Б. Бадгаев [Омакаева, Бадгаев 2015, 152–159]. Об исторических преданиях о Галдане Бошогту-хане пишет Г. Пурэвдорж, в приложении к своей статье публикующий тексты легенд об этом герое, связанных с географическими объектами на территории западной Монголии [Пүрэвдорж 2015, 59–73]. Исследователь отмечает, что имеется целый ряд объектов, связанных с историей ойратов и Галданом Бошогту-ханом. Соответственно бытуют и легенды, и предания, в которых говорится об этих объектах: перевал Унгалза, Большие и Малые керексуры, река Амгалан, река Бо-дийн, гора Батхаан и др. [Пүрэвдорж 2015, 60]. Галдан Бошогту-хан особо почитается в среде олётов, которые расселены в Монголии и КНР, хотя исторические сведения и других ойратских народов включают сведения об этом герое, пытавшемся объединить монголов. На центральной площади в г. Кобдо одна из скульптур изображает Галдана Бошогту-хана, а во многих офисах в западной Монголии можно встретить портрет этого джунгарского хана.
Цель статьи – проанализировать олётское предание о том, как мать Галдана Бошогту-хана – Юм Ага – попросила Инзана-хутухту переродиться ее сыном, а также определить связи текста, опубликованного в сборнике олётского фольклора, с письменными памятниками ойратов и исследовать вопрос о жанровой характеристике текста.
«Галдан Бошгот Энсээ хутагтын хойт дүр болох нь»: основное содержание и исторические прообразы героев
В ойратском тексте «О том, как Галдан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-хутухты» говорится о прекрасной и мудрой дочери торгутского тайши Шукур-Дайчина Юм Ага, в 12 лет выданной замуж за
Эрдэнэ (Эрдени) – старшего сына Буян Отгона, который был младшим сыном хошутского Хан-Хонгора [Өөлд ардын 200, 538–540]. Сразу отмечается, что осенью года огня-овцы (1607 г.) во время битвы с 100-тысячным войском (10 туменами) халхаского Эрдэнэ Омбо Дзасакту-хана были убиты Хан-Хонгор и его внук Эрдени, а молодая 12-летняя супруга второго добралась на коне до старшего сына Хан-Хонгора – Байбагаса-батура и рассказала о случившемся. Байбагас выступил против войска Дзасак-ту-хана и отогнал его на дальнее расстояние, совершил погребение своего отца и после этих горестных событий решил, не возвращая обратно Юм Ага (которая была еще малолетней супругой его племянника), сделать ее своей приемной дочерью [Өөлд ардын 2006, 538]. В том же году в соответствии с пожеланием Юм Ага он отправил ее вместе с 5 девочками для изучения христианской веры в Бурятию, где она обучалась четыре года.
Предание повествует, что Юм Ага изучила обычаи и каноны (этикет), китайский язык, русский язык, счет туменов скота, узнала историю и стала весьма образованной. К тому времени предприняты были меры к остановке начавшегося распада ойратского союза. Для охраны границ кочевий ойратов и укрепления войска ойратов на границу был направлен военачальник. Когда его первая жена Гэрэлнамжил умерла из-за осложнений в родах, старший сын цоросского Харахулы, 24-летний Батур-хунтайджи приехал в местность Улаан Бура в Тарбагатае, чтобы поохотиться. Здесь он случайно встретился с Юм Ага и познакомился с ней.
В фольклорном тексте указывается конкретная дата – 1612 г., когда Батур-хунтайджи, продолжая нести свою службу, прибыл к крепости на границе у Иртыша и здесь женился на Юм Ага, которая стала его главной супругой.
Говорится, что, когда в 1612 г. на свадебный пир собрались нойоны дербен ойратов, то главный тайша (глава чуулгана-сейма) Байбагас нойон, отмечая заслуги Батура, присвоил ему почетное звание Эрдэнэ-Ба-тур-хунтайджи, а отец его Харахула, продолжив сказанное, также назвал сына Батуром-хунтайджи.
Согласно преданию, молодой военачальник познакомился с Юм Ага в местности Улаан Бура. Юм Ага подарила ему на память золотой перстень с рубином, а Батур произнес в этой связи благопожелание, чтобы им покровительствовал заян-сякюсен (божество-покровитель). Предание включает текст песни, которую спел Батур, благословив Юм Ага прикосновением ко лбу, а также одарив ее парой серебряных браслетов на память. В песне говорилось о том, что та, с кем он познакомился у истоков Улаан Бара, там, где пасутся маралы, будет сниться ему во сне, и его глаза, увидев наяву девушку, будут радоваться встрече с ней [Өөлд ардын 2006, 539].
Юм Ага вышла замуж за чужеродца, а должна была выйти за родственников мужа, поэтому были те, кто язвили по этому поводу. Но слово Батуру было уже дано. И следующим летом состоялся свадебный обряд.
В предании говорится, что Юм Ага знала русский, китайский, арабский языки и письмо, изучала историю, внешнюю и внутреннюю политику, участвовала в совещаниях, исполняла разные обязанности, так как была образованной и мудрой женщиной, и ее стал почитать народ. Но, когда через два года после того, как был заключен брак, у супругов не появились дети, Батур-хунтайджи взял себе в жены женщину из народа бурут (киргизку) по имени Айяануур (или, на монгольский манер, Сарангэрэл), младшую дочь Алдар-хана.
В фольклорном тексте упоминается, что весной 1634 г. – года дерева-собаки, когда Батуру-хунтайджи было 47 лет, а Юм Ага – 39 лет, у них родился сын, которого назвали Сэнгэ. Он стал старшим сыном супругов, а у Батура хунтаджи – уже пятым сыном [Өөлд ардын 2006, 540].
В год воды-овцы случилось следующее событие. В публикации ошибочно вновь указан 1634 г., но, согласно исчислению лет в 60-летнем цикле лунно-солнечного календаря, год воды-овцы – девятый после года дерева-собаки. Значит, речь идет о 1643 г. В этот год Инзан-хутухта (ойрат. Энсээ хутагт ), который способствовал распространению буддизма среди ойратов, в том числе основанию храмов, обратился с просьбой к джунгарскому Батуру-хунтайджи и хошутскому Цэцэн-хану, говоря, что ему уже много лет и он желает возвратиться в Тибет. Получив согласие, он собирался в сопровождении особой охраны отправиться в Тибет. Когда он садился на коня, к нему подошла Юм Ага и, поклонившись у стремени (букв. дөрөөнөөс адис аваад ‘получив благословение у стремени’), обратилась с просьбой к хутухте о том, что у нее единственный сын и она просит даровать ей еще сына. Инзан-хутухта ответил, что он гелюнг – монах высшей степени посвящения, и потому не может дать ей сына. Закрыв глаза, он начал молиться, а Юм Ага, пролив слезы и с глубокой верой вознеся молитву, с поклоном повторно обратилась с просьбой: «Если Вы, гелюнг, не можете мне даровать сына, то прошу Вас переродиться в образе моего сына, ведь Вы уже в преклонном возрасте». На эту просьбу Юм Ага получила согласие Инзан-хутухты.
«По дороге в Тибет сбылось пожелание Инзан-хутухты», – говорится в фольклорном тексте, что подразумевает уход из жизни монаха и его перевоплощение: в том же году Юм Ага забеременела, а в 1644 г., будучи в весьма солидном возрасте, родила сына. В тексте говорится, что матери было 50 лет, отцу – 58 лет. Сын родился в 1644 г., в год дерева-курицы, хотя такое сочетание стихии и названия животного встречается в году, наступающем через год после года дерева-собаки – т.е. должен быть 1645 г. после 1643 г. Примечательно, что, по данным отдельных ученых, год рождения Галдана – не 1644 г., как общепризнанно, а 1645 г. [Кычанов 1999, 11].
Завершается фольклорный текст тем, что рожденного Юм Ага сына назвали Галданом и перерождением Инзана-хутугты, и с юных лет он стал ламой в Тибете [Өөлд ардын 2006, 540].
Годы, приводимые в предании, не точно соответствуют хронологии, что вполне объяснимо устной передачей текста. При этом уже первая дата (1607 г.), упоминаемая в предании, указывает на то, что Галдан родится у Юм Ага в пожилом возрасте, что сродни чудесному явлению.
В фольклорном тексте Юм Ага названа дочерью Шукур-Дайчина. По данным же, записанным Г.С. Лыткиным от старца Бебе из Малодербе-
Э.П. Бакаева (Элиста) | Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим... товского улуса, Юм Ага в памяти народа осталась как одна из трех самых красивых ойраток, и она была дочерью Хо-Урлюка, торгутского тайши и главного калмыцкого владельца. Но мнение Г.С. Лыткина не поддерживают Ш. Норбо [Норбо 1999, 201], В.П. Санчиров [Санчиров 2014, 12].
В исследованиях и в фольклорном тексте также имеются разночтения в том, кем являлся первый супруг Юм Ага и, соответственно, кем приходились ему «пять барсов» – хошутские нойоны, сыновья Хан-Хонгора – Бай-багас, Кундулен-Убаши, Гуши Номин хан, Засакту Батур, Буян-Отгон.
В олётском предании супруг Юм Ага – сын Буян Отгона и внук Хан-Хонгора, то есть родной племянник Байбагас-батуру. В сведениях же Г.С. Лыткина первым супругом Юм Ага назван хошутский Эрдени, сын Цукера [Лыткин 2003, 410]. Он погибает в неравном бою с монголами, тогда как троюродные дяди не приходят на помощь (будучи обиженными возгордившимся племянником [Лыткин 2003, 410; Габан Шараб 2003, 96]), а также отговаривают от поддержки джунгарского Батура-хунтайд-жи, за что дают обещание выдать за него замуж Юм Ага [Лыткин 2003, 410–411]. Исследователь приводил данные о том, что Эрдени являлся внуком Обок Чингса, старшего брата Бубея Мирзы – отца Хан-Хонгора и деда вышеуказанных Байбагаса и его четырех братьев [Лыткин 2003, 458]: поэтому Эрдени в ойратской иерархии считался представителем старшей линии и вел себя покровительственно по отношению к троюродным дядям, которые отомстили ему за вольности, так как были летами старше его.
Согласно «Родословной монголов», Юм Ага являлась женой Хан-Хон-гора [Письменные памятники 2016, 152].
Юм Ага в реальной жизни, как и в предании, была выдана за джунгарского владельца, хотя в кочевом ойратском обществе непреложным являлся обычай левирата, позволяющий вдове оставаться в семье мужа.
Оценка факта нарушения левирата в олётском предании, сложенном в среде народа, супругой лидера которого являлась Юм Ага, не прослеживается. Фольклорный текст акцентируется на малом, почти детском возрасте молодой вдовы, которую приравнивает к дочери и воспитывает (дает ей образование) глава хошутского клана Байбагас-батур. В народной же памяти калмыков (Юм Ага являлась дочерью главного тайши калмыков Шукур-Дайчина и потому ее образ сохранился в исторических памятниках) Юм Ага, по словам калмыцкого историка Габан Шараба, поклялась, что родит сына и воспитает в нем ненависть к хошутским князьям [Га-бан Шараб 2003, 95]. Причиной такого пожелания являлось, во-первых, то, что родственники не оказали помощь ее первому мужу и обрекли его на гибель; во-вторых, не оставили ее в своем клане, не вступили в брак с молодой вдовой по обычаям ойратского общества, а отдали ее замуж за представителя иного этнополитического объединения.
В примечании к «Материалам по истории ойратов» Г.С. Лыткин пишет, что, согласно данным «Сказания об ойратах» Габан Шараба, у погибшего хошутского владельца Эрдени был сын Гомбо Шараб [Лыткин 2003, 458]. Однако в тексте Габан Шараба говорится: «Обак Чинсанов сын Ядай Чин-сан; у него сын Ур(Нур) Узанг Шукер; у него сын Гюмбу Шарап» [Габан
Шараб 2003, 87]. Таким образом, калмыцкий историк сообщал о том, что у внука Обак (вариант написания Обок) Чингса был сын, но при этом самого внука он называл Шукером, тогда как, по Г.С. Лыткину, Цукер было имя отца хошутского Эрдени [Лыткин 2003, 410]. Тем не менее, исходя из сообщения о том, что у Эрдени был сын, понятно упоминание о том, что клятва-пожелание Юм Ага сопровождалась брызганьем грудного молока [Лыткин 2003, 412]. Г.С. Лыткин по этому поводу пишет: хошутский нойон Церен-Норбо Тюмень сообщал ему, что Юм Ага поклялась, что рожденные ею сыновья «уничтожат само имя хошут» [Лыткин 2003, 458].
Сведения об исторической личности Юм Ага, таким образом, не полностью совпадают с данными олётского предания. Тема раннего замужества (даже с указанием года) введена в текст предания, видимо, с целью объяснения причины нарушения ойратской традиции левирата. В олёт-ском фольклорном тексте она выступает как 12-летняя супруга, которую удочеряет дядя ее первого мужа и дает ей прекрасное образование.
Что касается исторического прообраза Юм Ага, то эта владелица прожила долгую жизнь, из «Биографии Зая-пандиты» известно, что после смерти Батура-хунтайджи в 1653 г. она приняла религиозные обеты [Рад-набадра 2003, 188], а скончалась в 1687 г. [Лыткин 2003, 413; Раднабадра 2003, 218].
Предания о Юм Агас были популярны у ойратских народов, так как она слыла одной из самых красивых ойраток, была дочерью главного калмыцкого владельца и супругой джунгарского хунтайджи, матерью Гал-дана Бошогту-хана. Г.С. Лыткин записал сведения о ней у старца Габан Цойджийн Бебе из Малодербетовского улуса Калмыцкой степи [Лыткин 2003, 410–413]. Э.У. Омакаева и Н.Б. Бадмаев в статье приводят краткий пересказ примерно такого же предания о Юм Агас [Омакаева, Бадгаев 2015, 157–158], однако не дают сведений, из какого источника взят текст: литературного или устного. В кратком изложении предания [Омакаева, Бадгаев 2015, 157–158] встречаются отличия от анализируемого олётско-го предания [Өөлд ардын 2006, 538–540]: первый муж Юм Ага погибает в борьбе с превосходящими силами мусульман Моголистана; Инзан-ху-тухта прибывает ненадолго к ойратам; просьба о перерождении в их семье сопровождается обещанием военной помощи Инзану-хутухте; после его благословения у Юм Ага и Батура-хунтайджи рождаются два сына.
Прообраз второго героя предания, Инзана-хутухты, – известный буддийский проповедник, тибетец, посланец Далай-ламы к ойратам.
Сведения о встрече Юм Ага и Инзана-хутухты в ойратском письменном источнике «Родословная монголов»
Фольклорный текст олётского предания в его основной части, относящейся к обоснованию причины признания Галдана перерожденцем Инзан-хутухты, весьма близок к соответствующему разделу письменного источника «Родословная монголов», обнаруженного у простого ойра-та-скотовода в уезде Монгол-хурээ в Синьцзян-Уйгурском автономном
Э.П. Бакаева (Элиста) | Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим... районе КНР и ставшего известным в начале 1980-х гг., когда он был опубликован в журнале «Хан-Тенгер» [Санчиров 2014, 8], после чего вошел в сборник ойратских письменных источников, опубликованных на старописьменном и затем на ойратском языках в КНР, а через несколько лет – в переложении на современном монгольском языке [Санчиров 2014, 8–9].
В письменном памятнике «Родословная монголов», созданном в начале XIX в. (указывается время около 1825 г.) неким Дээду, раздел, в котором говорится о просьбе Юм Ага к Инзану-хутухте, является одним из четырнадцати, содержащих разные известия [Санчиров 2014, 10].
Письменный памятник связывает пребывание Инзана-хутухты в момент, описываемый в олётской легенде, с поездкой к ойратам по просьбе лам из монастыря Дрепунг (где традиционно учились монахи-монголы и ойраты) во главе с Далай-ламой и Панчен-ламой, которые направили его для укрепления религии у ойратов и получения их помощи в противодействии «красношапочным» буддистам в Тибете: «Когда в Тибете стали возвышать красную веру (ulaɣan-uyi) [т.е. последователей красношапочной секты] и из четырех желтошапочных монастырей изгнали [их] священнослужителей (quvaraɣ-i), то ламы – хранители учения и ламы из [монастыря] Брайбунг (Berbeng) во главе с Панчен-ламой (Bančin erdeni) и Далай-ламой послали Энсэ-хутугту, сказав: “Будет правильно, если ты отправишься в путь. На востоке есть страна, где живут дурбэн-ойраты. Им суждено возродить там желтую религию Дзонхавы. Отправляйся [к ним] и скажи их ханам, чтобы они содействовали возрождению желтой религии”. <...> Когда Энсэ-хутугту выступил на большом съезде ойратских ханов, то они согласились с ним и договорились выделить три тысячи воинов, чему [Энсэ-]хутугта был очень рад. Когда он собрался ехать домой, то эти ханы оказали ему большие почести и сделали подношения. Баа-тур-хунтайджи отнесся к нему с уважением и тоже сделал подношение. Когда [Энсэ-хутугта] уезжал, то пришла Юм-ага и, держась за стремя [его лошади], сказала: “У меня [только] один сын, пожалуйте мне еще одного сына...”» [Письменные памятники 2016, 152–153].
В сочинении «Родословная монголов» сюжет о том, как Юм Ага попросила переродиться в своем будущем сыне Инзана-хутухту, занимает небольшое место. Вместе с тем присутствуют в нем следующие сведения: о том, что Юм-Ага – дочь торгутского Шукур-Дайчина; о том, что сначала она была выдана замуж за хошутского Хан-Хонгора, после смерти которого хошутские нойоны Байбагас, Очирту-Цэцэн-хан, Гуши-хан, Буян-Отхон, Кундулен-Убаши отнеслись к ней как к дочери и выдали замуж за Батура-хунтайджи; о том, что у нее было два сына – Сэнгэ и Галдан; о том, что ее сын стал перерожденцем Инзана-хутухты, которого она попросила переродиться после его пребывания среди ойратов, когда он приезжал как проповедник и принимал участие в «большом съезде», после выступления на котором договорился о предоставлении трехтысячного войска для ведения военных действий против приверженцев красношапочных школ в Тибете [Письменные памятники 2016, 152–153].
Важным является указание на период прибытия Инзан-хутухты к ой-ратам: до «большого съезда», т.е. до 1636 г., на котором была достигнута договоренность о выделении объединенного ойратского войска по результатам выступления хутухты на съезде. Сочинение содержит указание на военную помощь ойратов, которой добивался Инзан-хутухта; об этом имелось упоминание в источнике, который в пересказе включили в статью Э.У. Омакаева и Н.Б. Бадгаев [Омакаева, Бадгаев 2015, 157–158]. Однако олётское предание [Өөлд ардын 2006, 538–540] не содержит информацию о такой договоренности, которой был «очень рад» [Письменные памятники 2016, 152–153] Инзан-хутухта.
Значимой является и информация о том, что Юм Ага являлась супругой Хан-Хонгора: в таком случае она, хотя и была младше летами, считалась мачехой Байбагас-батуру и его братьям, а кончина ее первого супруга Хан-Хонгора не связывается с военными столкновениями. Письменный памятник так же, как и олётское предание, содержит некоторое оправдание нарушению ойратских обычаев со стороны хошутских князей, которые должны были оставить Юм Ага в качестве супруги кого-либо из-них, а выдали ее замуж за представителя другого рода и племени.
В связи с тем, что письменный памятник «Родословная монголов», который был обнаружен и опубликован в пользовавшемся широким интересом синьцзянском журнале в 1980-х гг., содержит сведения, близкие основному содержанию олётской легенды, возникает вопрос, могла ли публикация письменного сочинения повлиять на содержание предания.
Анализируемое олётское предание содержит, кроме основной темы, дополнительную информацию о событиях, предшествовавших знаменательной встрече Юм Ага с Инзаном-хутухтой. Поэтому, несмотря на присутствие в предании основных мотивов: просьба о сыне и отказ старого монаха, повторная просьба о перерождении и согласие монаха, – необходимо признать, что предание содержит более широкую информацию, включает образец другого жанра фольклора (песню), и, невзирая на возможное взаимовлияние фольклорного текста и письменного памятника, следует их считать самостоятельными.
Фольклорный текст о будущем перерожденце Инзана-хутухты: жанровая характеристика
В сборнике олётского фольклора составитель С. Баттулга включил текст «Галдан Бошгот Энсэ хутагтын хойт дүр болох нь» («О том, как Гал-дан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-хутухты») в один из тринадцати больших разделов, называемый им «Домог», в котором выделяет подразделы «Угсаатны зүйн домог», «Түүхэн домог», «Аж байдлын домог», «Уул усны домог» [Өөлд ардын 2006, 520–569]. Общий термин «домог» здесь объединяет тексты «о народах», «исторические», «бытового характера», «о горах и водах».
Термин «домог» в современном монгольском языке обозначает: «легенда, сказание, предание; миф; рассказ; история»; словосочетание «үлгэр домог» переводят как «легенда», «хууч домог» – как «старое предание», при этом «домог судлал» (где «судлал» – ‘изучение, исследование’) обозначает мифологию [БАМРС 2001–2002, II, 50]. Таким образом, слово «до-мог» объединяет несколько значений, которые обычно в фольклористике рассматриваются как самостоятельные. При этом термин «түүхэн домог» авторы Большого академического монгольско-русского словаря перевели как «а) историческое повествование; б) легенда» [БАМРС 2001–2002, III, 277], а перевод «сказание, историческое предание» в этом словаре отнесен к термину «үлгэр түүх» [БАМРС 2001–2002, III, 277].
Необходимо отметить, что вопросы терминологии в монгольской фольклористике, как и в монгольском литературоведении, остаются недостаточно разработанными. Так, А.Д. Цендина, проанализировав термины, обозначавшие крупные формы различных повествовательных произведений, в том числе термины домог (в статье дан перевод «легенда, сказание, предание, миф, рассказ, история» [Цендина 2015, 19–20]), түүх («история, историческое повествование» [Цендина 2015, 11]), пришла к выводу, что в старой монгольской литературе не было стройной концепции жанров повествовательной литературы [Цендина 2015, 28–29]: «...грань между этими терминами практически отсутствует. Ни монгольские термины туух , тууж , улгэр , домог , ни санскритские по происхождению шастир , цадиг , судар , ни даже тибетский термин намтар не имеют (или почти не имеют) присущего только им смыслового сегмента и едва ли не полностью взаимозаменяемы. Эпические произведения называются тууль, улгэр, туух, тууж, цадиг, шастир, намтар, домог . Летописи – туух, тууж, шастир, цадиг, намтар, домог, судар . Жизнеописания – намтар, туух, тууж, су-дар, цадиг, шастир, домог . Повествования, пришедшие из индо-тибетской традиции – шастир, улгэр, намтар, тууж, цадиг, тууль, домог, туух, су-дар . Поучения – тууж, шастир, судра . Переложение китайских повествовательных произведений – туух, судар, улгэр, тууж, шастир » [Цендина 2015, 25–26].
В связи с многозначностью терминологии, характерной для фольклорной традиции монгольских народов, в том числе ойратов, исследователи различно обозначают легенды и предания. Так, по результатам исследования мифов, легенд, преданий ойратов Осорин Утнасун пришла к выводу: «На мой взгляд, монгольский термин “домг” называется на китайском языке “shen hua”, на русском языке – “миф”. Что касается “домг үлгүр”, на китайском “chuan shuo”, по-русски – “легенда”. Если говорить о “сидтә тууль”, то в китайском языке это “mo fa gu shi”, в русском языке – “волшебная сказка”. “Амн үгин тууҗ” на китайском – “li shi chuan shuo”, на русском обозначается как “предание”» (В оригинале: «Мини хәләцәр, моӊһлын “домг” гисн нер-томья китд келнд “shen hua”, орс келнд “миф” гиҗ нерәдгнә. “Домг үлгүриг” болхла, китдәр “chuan shuo”, орсар “легенда” болҗана. Сидтә туулиг болхла, китдин келәр “mo fa gu shi”, орсар – “волшебная сказка”. Амн үгин тууҗиг китдин келәр “li shi chuan shuo”, орсар – “предание”») [Осорин 2011, 194]. Б.В. Меняев же в статье, посвященной жанровой классификации ойратского фольклора, образцы которого были опубликованы в Синьцзяне в журнале «Хан Тенгер» (1981–1993), пишет: «Журнал “Хан Тенгер” состоит из фольклорных текстов, скомпонованных по тематическим разделам: “Üliger-in dalai” “Море сказок” (мифы, сказки, легенды, предания и т.д.), “Zang dadγal” “Традиции и обряды” (этнографические заметки, исследования по материальной культуре ойратов), “Jan-gγar-in sudulal” “Исследования ‘Джангара’” (научные статьи, отрывки из эпоса), “Xur-in dusal” “Капли дождя” (триады, пословицы, загадки и т.д.). Научная классификация, теоретически обоснованная, ойратского фольклора по жанрам в настоящее время отсутствует, поэтому тематическая разбивка в журнале “Хан Тенгер” проведена условно: легенда может рассматриваться как предание, и наоборот, и т.п.» [Меняев 2016]. Исследователь выделяет обрядовые и необрядовые тексты фольклора, причем не отделяет легенды и предания, и в тексте статьи приводятся названия легенд, в которых фигурирует термин «üliger», переведенный «сказка» (например, «Amursanān bātur-in üliger» – «Сказка о Амурсана-батыре») [Ме-няев 2016]. Это свидетельствует также о широте терминологии, которая может обозначать разные жанры ойратского фольклора. Действительно, названия преданий, опубликованные в журнале «Хан Тенгер», свидетельствуют о том, что термин «үлгүр» обозначает и легенды, и предания (например: [Һалдмбан үлгүр 1985; Һалдмбан үлгүрмүд 1989]). Но термином «үлгүр» называют и сказки: так, работа Дамринжава «Өөрдин баатрлг үл-гүрин судлл» называется «Исследование ойратских богатырских сказок» [Дамринҗав 2006].
Как упоминалось выше, У. Осорин называет легенды «домг үлгүр», отделяя их от преданий – «амн үгин тууҗ» [Осорин 2011, 194; Осорин 2015].
Г. Пурэвдорж в статье, посвященной фольклорным текстам о Галдане Бошогту-хане, приводит сведения о том, что монголы называют исторические повествования или предания «түүхэн домог», во Внутренней Монголии их называют «түүхэн яриа» (букв. ‘историческая беседа, рассказ’), у бурят предания называют «түүхэ домог», при этом «домог» – вид устного наследия, в образцах которого говорится о происхождении народов, об исторических событиях, об исторических личностях, об определенных местностях, о происхождении названий [Пүрэвдорж 2015, 59]. Среди монгольских текстов «домог» выделяют следующие 4 вида: о народах, об исторических событиях, на бытовую тематику, о природных объектах (горах, источниках). Выделение в качестве определяющего признака «домог» его тематики определило то, что этот термин включает значения «легенда, сказание, предание, миф, рассказ, история» [БАМРС 2001–2002, II, 50]. Среди «домог» об исторических событиях выделяют два подвида: об истории и об исторических личностях [Пүрэвдорж 2015, 59]. Хотя исследователь рассматривает разные тексты, в том числе о природных и рукотворных объектах, связанных с личностью Галдана, он относит их к историческим повествованиям или легендам («түүхэн домог»), как можно сделать вывод из самого названия статьи [Пүрэвдорж 2015].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что и в фольклоре, и в литературе монгольских народов прослеживаются типичные
Э.П. Бакаева (Элиста) | Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим... процессы, что затрудняет классификацию и разработку специальной терминологии.
Олётский фольклорный текст о том, как Галдан стал перерождением Инзана-хутухты, несомненно, относится к историческим преданиям. Вместе с тем весьма интересным является исследование источника, указанного в публикации устного наследия олётов, в аспекте взаимосвязей фольклора и литературы, а также жанровых характеристик.
Источники анализируемого фольклорного текста и его связи с литературой
Фольклорный текст, отнесенный составителем С. Баттулгой к «түүхэн домог» – «историческим повествованиям или легендам» [БАМРС 2001– 2002, III, 277], взят им из публикации, о которой приведены только общие сведения: «Ч. Мөнхөө “Баатар хун тайж” тууж, Үрэмч, “Үүрийн цолмон” сэтгүүл. 1992, 1993 оны дугаарт тод үзгэр нийтлэгдсэн агуулгас авав» («Взято из содержания “Истории Батура-хунтайджи” Ч. Мёнки, опубликованной в 1992 и 1993 гг. на “ясном письме” в Урумчи в журнале “Утренняя звезда”) [Өөлд ардын 2006, 540]. Этот журнал издавался в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР с 1957 г. [Баяндалай 2020, 569]. Одной из задач журнала являлось формирование литературного процесса, поэтому на его страницах публиковались известные фольклорные произведения и образцы произведений старописьменной ойратской литературы; так, только в 1977–1996 гг. было опубликовано 243 образца устного народного творчества, а также 179 песен [Баяндалай 2020, 567, 571].
К сожалению, при подготовке статьи материалы, опубликованные в 1992–1993 гг. в журнале «Өрийн цолмон» (вариант написания – «Үүрийн цолмон»), нам были недоступны. Но в 2015 г. в серии «Bibliotheca oiratica» (подсерия «Biography serica») вышла в свет книга «Баатар хун тайж» этого же автора Ч. Мёнки (Ч. Мөнхөө), под общей редакцией На. Сухбаатара [Мөнхөө 2015]. Издание 2015 г. – второе. Как отмечает редактор На. Сух-баатар, книга о Батуре хунтайжи была написана в 1991 г. на ойратском «ясном письме» и долго готовилась к печати, была опубликована лишь в 2006 г. [Мөнхөө 2015, 3–4]. Ч. Мёнкя много собирал фольклор среди олё-тов, только олётских песен им было собрано более ста, записывал и исторические сведения по олётам; тексты олётского фольклора им публиковались в Синьцзяне в журнале «Хан Тенгер». В 1989 г. в журнале «Өрийн цолмон» им были опубликованы материалы о «каменной сутре» – тексте «Алмазной сутры» (ойр., калм. «Дорҗ җодв»), выбитом на камнях [Мөн-хөө 2015, 3]. Таким образом, второе издание 2015 г., на наш взгляд, может быть использовано для сопоставления текста источника и публикации в книге «Олётское устное народное творчество» [Өөлд ардын 2006], тем более что составитель последнего, С. Баттулга, осуществлял переложение книги Ч. Мёнки «Батур-хунтайджи» с ойратского «ясного письма» на кириллицу [Мөнхөө 2015, 2].
В издании, подготовленном под редакцией На. Сухбаатара, сочинение Ч. Мёнки названо «түүхэн баримтат тууж» ‘историко-документальная повесть’ или ‘историческая повесть’. На. Сухбаатар в предисловии характеризует издание как «түүх уран сайхны баримтат тууж номоо» ‘историческое исследование (или книга), в которой художественно осмыслены исторические факты’ [Мөнхөө 2015, 4]. Высоко оценил как исследование книгу во вступительном слове академик Ч. Далай: «Өөлдийн ард түмэн магтан дуулж, бахархан ярьж үеэс үед дамжуулж ирсэн. Үүний тод илрэ-лийн нэг нь Ч.Мөнхөөгийн энэ ном юм» («Олётский народ восхвалял [героев] в песнях, рассказывал о гордости за них из поколения в поколение. Ясным подтверждением этого является исследование Ч. Мёнки») [Мөн-хөө 2015, 5–6].
Таким образом, Ч. Далай пишет о том, что книга Ч. Мёнки основана на устном народном наследии. Публикация Ч. Мёнки сопровождается словарем олётских слов, что также является подтверждением использования им фольклорных текстов.
В связи с этим составитель сборника фольклора олётов С. Баттулга посчитал возможным включить в книгу «Олётское устное народное творчество» текст, заимствованный из журнальной публикации Ч. Мёнки, причем без указания конкретных страниц. И в книге о Батуре-хунтайджи [Мөнхөө 2015] можно обнаружить сведения, опубликованные С. Баттул-гой [Өөлд ардын 2006, 538–540] в предании о том, как Галдан стал перерожденцем Инзана-хутухты.
Изложенные в книге Ч. Мёнки факты соответствуют событиям, о которых говорится в анализируемом олётском предании, но они упоминаются в «историко-документальной повести» в разных местах книги, с 4 по 15 разделы. Примечательно, что между событиями, упоминаемыми в книге Ч. Мёнки, и фактами, упоминаемыми в предании, опубликованном С. Баттулгой, нет разночтений, и это также является дополнительным свидетельством того, что в данном случае источником для составителя сборника фольклора послужил текст Ч. Мёнки.
Так, в работе Ч. Мёнки говорится о замужестве 12-летней дочери Шу-кур-Дайчина Юм Ага, о том, что халхаский Дзасакту хан убил ее супруга Эрдэнэ и его деда, нойона Хонгора, а Юм Ага, бежав ночью, сообщила об этом Байбагас-батуру [Мөнхөө 2015, 41]; Байбагас вместе с Турубайху (будущим Гуши-ханом), Очирту, Буян-Отгоном, Кундуленом Убаши обратили в бегство войско Дзасакту хана, а Байбагас удочерил Юм Ага. Примерно в это время в Хобуксайре поселился Батур – сын цоросского Харахулы [Мөнхөө 2015, 42], через некоторое время у него умерла супруга Гэрэлнамджил [Мөнхөө 2015, 44]. В Тарбагатае Батур знакомится с Юм Ага [Мөнхөө 2015, 47], на память они обмениваются подарками (золотое кольцо с рубином и серебряные браслеты), Батур поет песню [Мөнхөө 2015, 49], слова которой повторяются в опубликованном С. Баттулгой предании [Өөлд ардын 2006, 539].
Соответствуют в книге Ч. Мёнки опубликованному преданию и данные об образовании Юм Ага, которая отправляется в Россию, где живет
4 года в Бурятии вместе с другими 5 девушками, изучает христианское учение, язык, счет и становится весьма образованной [Мөнхөө 2015, 61], после чего ее выдают замуж за Батура, сына Харахулы. Байбагас-батур на свадьбе объявляет о даровании титула «Эрдени Батур-хунтайджи», а отец молодого супруга также называет его «Батур-хунтайджи» [Мөнхөө 2015, 63].
Как и в сборнике, подготовленном С. Баттулгой, в книге Ч. Мёнки содержатся сведения о женитьбе Батура на киргизке Сарангэрэл (Айяануур) [Мөнхөө 2015, 63], позже сообщается, что в 39 лет Юм Ага родила сына Сэнгэ [Мөнхөө 2015, 112], а в 1643 г., будучи уже 49-летней, обратилась к Инзан-хутухте с просьбой о даровании сына и после его первоначального отказа уговорила его переродиться в образе ее сына, что и случилось на следующий год [Мөнхөө 2015, 136].
В книге Ч. Мёнки также сообщается о том, что Инзан-хутухта отправился к ойратам в 1634 г., когда халхаский Цогту-тайджи совершил нападения на четыре главных монастыря Тибета и тибетские монахи во главе с Далай-ламой и Панчен-ламой обратились за помощью к ойратам [Мөнхөө 2015, 115], в 1636 г. состоялся съезд, на котором приняли решение об оказании военной помощи, и ойратское войско уже в 1637 г. достигло Тибета.
Текст Ч. Мёнки в части, где говорится о военной помощи ойратов тибетскому монашеству (школы Гелуг), отражает содержащиеся в «Родословной монголов» сведения о противостоянии в Тибете приверженцев красношапочных и желтошапочной школ и о выдвижении объединенного ойратского войска на помощь в Тибет, что может быть объяснено как недавней по отношению ко времени создания книги Ч. Мёнки публикацией (в 1983 г.) нового письменного источника, так и бытованием сходного по содержанию предания, которое мог записать этот автор. Нужно отметить, что связь между мотивом оказания ойратами поддержки тибетским монастырям и мотивом согласия переродиться в семье одного из лидеров ойратов прослеживается, однако этот факт не был включен составителем С. Баттулгой в сводный текст предания, составленного им на основе данных, включенных в исследование Ч. Мёнки.
Заключение
Предание «О том, как Галдан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-хутухты» («Галдан Бошгот Энсэ хутагтын хойт дүр болох нь») включает сжатое повествование о фактах из жизни Юм Ага – дочери тор-гутского Шукур-Дайчина и супруги джунгарского Батура-хунтайджи, матери джунгарских Сэнгэ-хунтайджи и Галдана Бошогту-хана, которая также была очень близким по крови человеком (сестрой отца) для калмыцкого Аюки (будущего хана), рожденного в кочевье Батура-хунтайджи его дочерью, откочевавшей от своего супруга Пунцука, сына Шукур-Дайчина.
Предание включает факты, которые соответствуют историческим событиям, и в нем действующими лицами являются реальные герои истории ойратов.
Весьма близким по содержанию главной темы предания оказывается соответствующий раздел ойратского письменного памятника «Родословная монголов», обнаруженного в Синьцзяне и опубликованного в 1983 г. в журнале «Хан Тенгер», что способствовало расширению знаний об этом ойратском сочинении. Но предание, опубликованное в книге «Олётское устное народное творчество» [Өөлд ардын 2006, 538–540], содержит и другие сведения – и их мы обнаруживаем в исследовательской по характеру историко-документальной повести Ч. Мёнки «Батур-хунтайджи», которую составитель вышеназванного сборника олётского фольклора С. Баттулга переложил на кириллическое монгольское письмо и данные из которой соответствуют анализируемому нами преданию. В этом сборнике немало указаний в качестве первоисточника на публикации фольклора, имеются и упоминания об устных сообщениях, в том числе и сообщениях от Ч. Мёнки, отец которого Б. Чойнзон являлся знатоком фольклора.
Таким образом, источником для предания, опубликованного в сборнике олётского фольклора, послужили материалы, изложенные в историко-документальной повести, основанной на народных легендах и преданиях.
В связи с вышеизложенным, значимым является определение жанровой характеристики текста, опубликованного С. Баттулгой [Өөлд ардын 2006, 538–540]. Несмотря на указание о печатном виде источника, который связан с более поздним изданием его в виде историко-документальной повести, текст о том, как Инзан-хутухта согласился переродиться сыном Юм Аги, можно назвать историческим преданием.
Важно отметить, что ответственным редактором сборника, составителем которого являлся С. Баттулга, был известный монгольский ученый Х. Сампилдэндэв. Во втором издании историко-документальной повести Ч. Мёнки академик Ч. Далай называет это произведение «ном» [Мөнхөө 2015, 6], что означает как книгу, так и исследование.
В целом необходимо, во-первых, отметить связанность текста фольклорного и письменного памятника. Распространено мнение о том, что предания исторические становились основой письменных исторических сочинений. Сочинение Дээду «Родословная монголов» было составлено около 1825 г., то есть тогда, когда уже предания о Галдане и его родителях бытовали в среде ойратов. Поэтому можно предположить, что действительно устный текст стал основой соответствующего раздела письменного памятника.
Во-вторых, анализ показывает, что неразработанность жанровой классификации в литературе, о которой пишет А.Д. Цендина [Цендина 2015], связан с такой же многозначностью и неразработанностью классификации в фольклорных текстах монгольских народов. «Размытость» границ между литературным произведением и фольклорным текстом в случаях, когда речь идет об исторических сочинениях и исторических преданиях, иллюстрируется как заимствованиями, подобными тому, которое мы проследили в нашей статье, так и широким полем народной традиции: в случае если бы составитель С. Баттулга указал бы в качестве источника устное сообщение Ч. Мёнки (примеры чего имеются в том же издании [Өөлд
Э.П. Бакаева (Элиста) | Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим... ардын 2006, 550]), то проблема заимствований литературного текста в фольклорном была бы снята.
А.Д. Цендина приходит к выводу, что в старой монгольской литературе система разграничения жанров и грань между терминами, обозначающими их, практически отсутствовала [Цендина 2015, 28–29]. На примере рассмотренного в статье олётского предания мы видим, что такое же положение наблюдается и в случае, когда литературное произведение основано на устной традиции: тексты заимствуются и изменяются, обогащая и фольклор, и литературу.
Список литературы Ойратское предание о том, как Галдан Бошогту стал следующим перерождением Инзан-Хутухты: фольклорный текст и письменный источник
- Алтайн урнанхайн угсаатны зуй. Улаанбаатар: «Китаб» XX^ 2014. 256 т.
- Байндала Б. «врийн цолмн» седкул болн оорднн шнн уйни урн зокал (= Журнал «врийн цолмон» ('Утренняя звезда') н современная ойратская литература) // Монголоведение. 2020. Т. 12. № 3. С. 567-573.
- Бакаева Э.П. Мнфологнческн элементы в ойратской легенде о нойоне Гал-даме: характеристика коня // Новый филологический вестник. 2023. № 2(65). С. 178-191.
- Бакаева Э.П. Нойон Галдама в письменной и устной традиции монгольских народов // Oriental Studies. 2022. № 15(6). С. 1271-1292.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2001-2002.
- Габан Шараб. Сказание об ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники / ред.-сост. A.B. Бадмаев. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2003. С. 84-107.
- Галдан Бошнгт судлал. Улаанбаатар: Ган принт, 2015. 244 х.
- Дамринщав Б. вердин баатрлг улгурин судлл. Пекин: Yндстнэ кевллин хора, 2006. 358 х.
- Дервед ардын аман зохнол / Б. Катуу. Улаанбаатар: Монгол улсын Шинж-лэх ухааны академийн хэл зохиолын хурээлэн, 2005. 274 т.
- Захчин ардын аман зохнол / Б. Катуу, Э. Пурэвжав. Улаанбаатар: Монгол улсын Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хурээлэн, 2004. 452 т.
- Кычанов Е.И. Повествование об ойратском Галдане Бошокту-хане. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 208 с.
- Лыткин Г.С. Материалы для нсторнн ойратов // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники / ред.-сост. A.B. Бадмаев. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2003. С. 390-468.
- Меняев Б.B. О жанровой классификации фольклора ойратов Кнтая (по материалам журнала «^ан Тенгер») // Современные научные исследования н инновации. 2016. № 11. URL: https://web.snauka.ru/issues/2016/11/74897 (дата обращения: 03.10.2023).
- Мирзаева C.B. Лузанг-Шуну, Галдама н Амурсана - нойоны Джунгарского ханства // Бакаева Э.П., Орлова K.B., Муравьева Д.Н. н др. Трансграничная культура. Очерки сравнительно-сопоставительного исследования традиций западных монголов н калмыков: монография. Элиста: КалмНЦ РАН, 2016. С. 313-344.
- Монгол улсын угсаатны 3Ytt II боть. Ойрадын угсаатны ЗYЙ. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1996. 437 т.
- Мвнхвв Ч. Баатар хунтайж (ТYYXэн баримтат тууж). Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2015. 154 х. (Bibliotheca Oiratica Biography Series. VI).
- Намсрай Н. ЗYYHгар хаант улсын TYYX / эрх. На. Сухбаатар. Улаанбаатар: Соёмбо, 2015. 182 х. (Bibliotheca Oiratica. XLIV).
- Намсрай Н. велдийн соёл, TYYXийн бичиг оршивой. Улаанбаатар, 1999. 126 х.
- Норбо Ш. Зая-пандита. Материалы к биографии. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1999. 336 с.
- Ьалдмбан YЛГYP // Хан тецгр. Yрмч: Шинж;энэ ардын кевллин хора, 1985. № 2. 140 х.
- Ьалдмбан YЛГYрмYД // Хан тецгр. Yрмч: Шинж;энэ ардын кевллин хора, 1989. № 1. 200 х.
- Ойрад монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлал. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг ХХК, 2012. 190 т. (Biblioteca Oiratica. XXVIII).
- Оконов Б.Б. Калмыцкие народные исторические песни XVII-XVIII вв. («Галдама», «Мазан-Батыр», «Шуна-Батыр», «На кого же оставил нас Уба-ши?») // Калмыцкая народная поэзия. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1984. С. 30-58.
- Омакаева Э.У., Бадгаев Н.Б. Галдан Бошогту хан в ойратских легендах и преданиях (по литературным и полевым источникам) // Галдан Бошигт судлал. Улаанбаатар: Ган принт, 2015. Х. 152-159.
- Осорин У. Мифы, легенды и предания синьцзянских ойратов и калмыков: сравнительно-сопоставительный анализ. Элиста: КИГИ РАН, 2015. 188 с.
- Осорин У. Шинж;энэ еерднрин домг, дом^л^рин болн сидтэ туульсин туск шинж;ллт (О мифах, легендах и сказках ойратов Синьцзяна) // Oriental Studies. 2011. Т. 4. № 1. С. 193-196.
- Очир А. Монгольские этнонимы: вопросы происхождения и этнического состава монгольских народов. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 304 с.
- велд ардын аман зохиол / сост. С. Баттулга, ред. Х. Сампилдэндэв. Улаанбаатар: Бемби сан, 2006. 714 х.
- Письменные памятники по истории ойратов XVII-XVIII веков: сборник / сост., перев. со старописьм. монг., транслит. и коммент. В.П. Санчирова. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 270 с.
- Пурэвдорж Г. Галдан Бошигт хааны тухай TYYXэн домог // Галдан Бошигт судлал. Улаанбаатар: Ган принт, 2015. Х. 59-73.
- Раднабадра. Биография Зая-пандиты // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники / ред.-сост. А.В. Бадмаев. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2003. С. 161-220.
- Санчиров В.П. К вопросу о Дурбэн-ойратском союзе // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013. № 2. С. 7-12.
- Санчиров В.П. Новый источник на «ясном письме» по истории Джунгар-ского ханства (1635-1758) // Oriental Studies. 2014. Т. 7. № 2. С. 8-15.
- Селеева Ц.Б. О двух исторических преданиях времен Аюки-хана в традиции ойратов Синьцзяна: к проблеме историзма фольклора // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2020. № 3. С. 213-226.
- Торгууд ардын аман зохиол. Эмхтгэн боловсруулж, эрдэм шинжилгээний удиртгал бичиж, тайлбар ЗYYЛт Yйлдсэн Б. Катуу. Улаанбаатар, 2002. 461 х.
- Цендина А.Д. Термины тууль, тууж, туух, улгэр, домог, намтар, цадиг, судар, шастир в старой монгольской литературе // Монгольский сборник. Тексты и контексты. Сер. Orientalia et Classica: труды Института восточных культур и античности. Вып. 54. М.: РГГУ, 2015. С. 7-29.