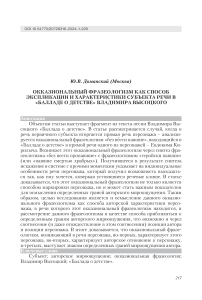Окказиональный фразеологизм как способ экспликации и характеристики субъекта речи в «Балладе о детстве» Владимира Высоцкого
Автор: Доманский Ю.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Объектом статьи выступает фрагмент из текста песни Владимира Высоцкого «Баллада о детстве». В статье рассматривается случай, когда в речь первичного субъекта вторгается прямая речь персонажа - анализируется окказиональный фразеологизм «без вести павшие», находящийся в «Балладе о детстве» в прямой речи одного из персонажей - Евдокима Кирилыча. Возникает этот окказиональный фразеологизм через синтез фразеологизма «без вести пропавшие» с фразеологизмом «геройски павшие» (или «павшие смертью храбрых»). Получившееся в результате синтеза искажение в системе с прочими моментами указывает на индивидуальные особенности речи персонажа, который получил возможность высказаться так, как ему хочется, коверкая устоявшиеся речевые клише. В статье доказывается, что этот окказиональный фразеологизм не только является способом маркировки персонажа, но и может стать важным показателем для осмысления определенных граней авторского мироощущения. Таким образом, целью исследования является и осмысление данного окказионального фразеологизма как способа авторской характеристики персонажа, в речи которого этот окказиональный фразеологизм находится, и рассмотрение данного фразеологизма в качестве способа приблизиться к определенным граням авторского мироощущения, что возможно и через соотнесение (и даже отождествление в этом соотнесении) позиции автора и позиции персонажа. В итоге доказывается, что окказиональный фразеологизм, возникающий в речи персонажа, во-первых, характеризует этого персонажа, во-вторых, характеризует авторское отношение к персонажу, в-третьих, выступает знаком определенных граней мироощущения автора.
Субъект, авторское мироощущение, окказиональная фразеология, владимир высоцкий, «баллада о детстве»
Короткий адрес: https://sciup.org/149145249
IDR: 149145249 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-226
Текст научной статьи Окказиональный фразеологизм как способ экспликации и характеристики субъекта речи в «Балладе о детстве» Владимира Высоцкого
В «Балладе о детстве» (1975) Владимира Высоцкого нас заинтересовал один окказиональный фразеологизм: приведем его в необходимом контексте трех строф:
И било солнце в три луча, Сквозь дыры крыш просеяно, На Евдоким Кирилыча И Гисю Моисеевну.
Она ему: «Как сыновья?» «Да без вести пропавшие! Эх, Гиська, мы одна семья – Вы тоже пострадавшие!
Вы тоже пострадавшие, А значит – обрусевшие: Мои – без вести павшие, Твои – безвинно севшие» [Высоцкий 1991, 476].
Окказиональный фразеологизм «без вести павшие» расположился в небольшой реплике персонажа – Евдокима Кирилыча, то есть в словах, которые принадлежат в строгом смысле не лирическому герою и даже не ролевому субъекту, а именно персонажу. В приведенном сегменте перед нами два типа субъекта; если использовать терминологию Б.О. Кормана, то это субъекты первичный и вторичный («Субъекты речи делятся на первичных и вторичных. Первичный субъект речи есть такой субъект речи, между которым и автором нет субъектов-посредников. Вторичный субъект речи есть такой субъект речи, между которым и автором есть субъекты-посредники» [Корман 2006, 174]. Попутно заметим, что Б.О. Корман, характеризуя лирику как литературный род, отказывает ей в наличии вторичного субъекта: «Произведение лирического рода есть такое произведение, в котором весь текст принадлежит одному субъекту речи» [Корман 2006, 175]; однако в лирике много примеров того, когда речь субъекта может сменяться речью персонажа, то есть вместе с первичным субъектом возникает и субъект вторичный, и «Баллада о детстве» Высоцкого из числа таких текстов. Означает ли это, что в таком случае перед нами не лирика? Думается все же, что нет. Скорее, мы имеем дело с более сложными в субъектном плане формами организации этого рода литературы. То есть наличие вторичного субъекта речи не может для лирического текста оказываться показателем родовой перекодировки, а Евдоким Кирилыч как раз и является таким вторичным субъектом речи, буквально – персонажем. Следовательно, и специфика речи его может представлять те или иные грани его характера (в авторской оценке, разумеется). Окказиональный фразеологизм «без вéсти павшие», таким образом, может позволить нам приблизиться к пониманию мира персонажа, а через это – и к мироощущению автора.
Как известно, в поэзии Высоцкого лирический субъект (и шире: тот, кому принадлежит речь) – явление весьма и весьма специфическое (подробнее см.: [Воронова 1990; Гасанова 2005; Голдышева 2020; Кихней 2009; Климакова 2011; Липовецкий 2001; Шилина 1998 и мн. др.]). И если следовать этим и другим работам о субъектах в поэзии Высоцкого, то можно сделать вывод о том, что кем бы ни были эти субъекты, в каком бы статусе не находились наделенные речью персонажи, все они являются частью многогранного, но все же единого лирического субъекта, способного транслировать разнообразные грани авторского мироощущения; такого субъекта можно несколько оксюморонно назвать ролевым лирическим героем. Таков первичный (в терминологии Кормана) субъект «Баллады о детстве»; по отношению к нему персонаж Евдоким Кириллыч будет субъектов вторичным, однако и он тоже может быть осмыслен как часть того многогранного лирического субъекта, о котором только что было сказано.
Именно в прямой речи Евдокима Кириллыча присутствует пример того, что можно назвать окказиональной фразеологией. Здесь следует вновь напомнить, что перед нами текст песни, то есть текст звучащий, исполненный. А в паре исполненное-напечатанное вариативность носит двунаправленный характер: интонация в исполненном тексте редуцирует вариативный потенциал напечатанного текста, а напечатанный текст наличием кавычек в состоянии редуцировать субъектную вариативность исполненного текста. Следовательно, в исполненном тексте зачастую сложно определить, кому, какому носителю речи, какому персонажу принадлежит тот или иной сегмент. В «Балладе о детстве» Высоцкого такие вторжения слов персонажей в текст хорошо видны в напечатанных версиях, но вот в версиях исполненных они не столь строго эксплицированы.
Мы обратимся к трем строфам, что были приведены выше. В этом сегменте содержится прямая речь двух персонажей песни – Евдокима Кирилыча и Гиси Моисеевны. И в реплике Евдокима Кирилыча содержится заинтересовавший нас окказиональный фразеологизм. Но прежде, чем посмотреть на этот окказиональный фразеологизм, отметим, что окказиональность как таковая у Высоцкого нередко выступает показателем экспликации того, речь принадлежит персонажу. И бывает, что окказиональность тяготеет к фразеологичности. Вот пример из «Письма в редакцию телевизионной передачи “Очевидное – невероятное” из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи»:
Тех, кто был особо боек,
Прикрутили к спинкам коек –
Бился в пене параноик
Как ведьмак на шабаше: «Развяжите полотенцы, Иноверы, изуверцы!
Нам бермуторно на сердце,
И бермудно на душе!» [Высоцкий 1991, 547].
Окказионализмы тут размещены в реплике вторичного ролевого субъекта (первичный – обитатели Канатчиковой дачи, пишущие письмо на телевидение, а вторичный – параноик, которого привязали к койке). По поводу фразеологизмов в этой реплике В.П. Изотовым замечено следующее: «Изуверец. <…> В этом случае поэт применил технику перекрестного словообразования: слова изувер и иноверец, смешиваясь, меняют свои финальные части, и анализируемое новообразование приобретает суффикс, а окказионализм иновер теряет его. На мой взгляд, значение новообразований практически не изменяется по сравнению с производящими словами. <…> Иновер. См. изуверец. Способ образования – десуффиксация
(обратная суффиксация)» [Изотов]. Само же наличие в песнях Высоцкого исковерканных фразеологизмов, окказионализмов и прочей лексики, выходящей за пределы литературного языка, и обусловлено зачастую ролевой природой субъекта, ведь «речь ролевого героя ориентирована на разговорный язык. Это сказывается в использовании вводных слов и определенных синтаксических конструкций, в выборе языкового материала, соответствующей лексики, фразеологии, намеренном употреблении неправильных грамматических форм, в использовании широкого стилистического диапазона языкового материала: от архаизмов и возвышенной лексики до грубого просторечия или даже бранных слов» [Гасанова 2005, 14]. И если брать упомянутых выше «иноверов» и «изуверцев», то тут сам прием коверканья слов способствует экспликации психиатрических отклонений у носителя речи, рассогласования речевой и мыслительной деятельности, может даже выступать способом демонстрации речевой афазии. При первом (или одном из первых) исполнений это могло быть просто оговоркой автора, но эта оговорка пришлась, что называется, ко двору, став в итоге важной частью текста, характеризующей (в числе прочего) и его субъектную природу. То есть значенья слов, может, и не меняются, но система из двух исковерканных слов достаточно четко представляет нам статус персонажа как человека, во-первых, страдающего психиатрическим отклонением, во-вторых, страдающего от ограничения свободы – прикрученного полотенцем к спинке койки. Таким образом, относительно значений первичных слов в возникших на их основе окказионализмах формируются новые смыслы. Учитывая же, что перед нами не один окказионализм, а система из двух, мы можем в этом случае говорить об окказиональной фразеологии; и говорить о ней, как о способе экспликации и актуализации ролевого субъекта. Следовательно, тут перед нами случай, когда «окказионализмы В. Высоцкого реализуют функцию языковой игры, связанную с использованием различного рода каламбуров, шутки, основанной на смысловом объединении в одном контексте либо разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сходных по звучанию» [Жабаева 2010, 19–20].
Но просто обилием окказионализмов идиостиль Высоцкого отнюдь в данном плане не исчерпан; так у Высоцкого «особенно частотными в поэтических текстах являются окказиональные фразеологические единицы, образованные на базе узуальных единиц языка. На это указывают и признаки, свидетельствующие о нарушении тождества фразеологизма: изменение предметно-понятийного содержания, категориальной семантики, отсутствие тождества образной основы» [Туркина 2018, 126]. А для работы Высоцкого с фразеологией характерно «стремление к различным преобразованиям фразеологических единиц как средству создания юмористического или сатирического эффекта и общей эмоционально-экспрессивной выразительности» [Митина 2017, 7]. Добавим к этому и следующее: «Иди-остилевыми особенностями поэзии Высоцкого являются разрушение фразеологизмов, использование прецедентных текстов, стилистическая конфликтность. Результатом трансформации устойчивых выражений становится их новое, порой неожиданное, звучание. Добивается автор этого разными способами: заменой одного из элементов фразеологизма, нарушением порядка слов, использованием устойчивого выражения в его буквальном значении» [Гасанова 2005, 11]. Как представляется, фразеологизм «без вéсти павшие» из реплики Евдокими Кирилыча в «Балладе о детстве» соответствует всем данным характеристикам. Но что дает осмысление этого окказионального фразеологизма в частном порядке?
Находится он в словах Евдокима Кирилыча, обращенным к Гисе Моисеевне, на что указывает обращение «Эх, Гиська». Здесь, как было и с репликой параноика в «Письме…», перед нами включение прямой речи персонажа в речь первичного субъекта, а в «Балладе о детстве» таковым можно считать (впрочем, не без оговорок) того, кого имеет смысл именовать ролевым лирическим героем. Но искажает фразеологизм «без вести пропавшие», не он, а персонаж – Евдоким Кириллыч; при этом исходный фразеологизм в чистом виде возникает чуть ранее в той же самой реплике Евдокима Кирилыча – «Да без вести пропавшие». Искажение этого фразеологизма в сторону оксюморонности происходит через его синтез с фразеологизмом «геройски павшие» (или «павшие смертью храбрых»). Это искажение в системе с прочими моментами указывает на индивидуальные особенности речи персонажа, который получил возможность высказаться так, как ему хочется – коверкая устоявшиеся речевые клише.
И при этом получается так, что сам окказиональный фразеологизм «без вéсти павшие» обладает относительно своих предшественников – привычных фразеологизмов времен войны – оригинальным значением. Оригинальным, хотя, конечно же, не автономным, ибо значение это порождено значениями фразеологизмов-предшественников, но при этом нарочито искажено автором, искажено в сторону усиления трагизма. Фразеологизм «без вести пропавшие» еще дает надежду; фразеологизм «павшие смертью храбрых» указывает на память о подвиге героя, на признание этого подвига, а значит, на признание того, что гибель героя была не напрасна. Окказиональный же фразеологизм из реплики персонажа Высоцкого, формально, внешне сохраняя значения двух своих фразеологических прародителей, формирует значение новое и противоположное, как первому («без вести пропавшие»), так и второму («павшие смертью храбрых») фразеологическим источникам: «без вéсти павшие» не дает надежду и не указывает на признание и героическую память, тем самым снижая общий героический пафос гибели во время войны за Родину.
Такое снижение героического пафоса при помощи окказионального фразеологизма призвано, как представляется, эксплицировать что сегмент, содержащий его является в чистом виде речью персонажа. При чем речью, являющейся репликой в диалоге: эксплицированный адресат реплики Евдокима Кириллыча – это Гися Моисеевна, национальная идентичность которой (если судить по имени и отчеству) во многом обуславливает примененное к ней собеседником «безвинно севшие». Собственно же окказиональный фразеологизм «без вести павшие», относясь к родне, а конкретнее – к сыновьям уже Евдокима Кирилыча, становится в данном случае не только одним из способов экспликации его субъектного статуса, но и позволяет увидеть некоторые представления субъекта данного сегмента о мире и о месте человека в нем в конкретную эпоху в конкретной стране; в частности, отношение к войне, точнее – к судьбе конкретного человека на войне, того самого «маленького» человека, финал жизни которого, хоть и пришелся на войну, оказался тоже «маленьким», а отнюдь не геройским. И оценка этого финала Евдокимом Кириллычем может быть рассмотрена и как речевая ошибка, и как сознательное коверканье, порождающее иронию со стороны именно персонажа. Второе вполне вероятно. Так, А.Е. Крылов, рассмотрев необычный перенос значения одного фразеологизма на другой в строках Высоцкого «Я тебя одену в пан и в бархат, / В пух и в прах и в бога душу, вот» [Высоцкий 1991, 106] из песни «Катерина, Катя, Катерина!..», делает крайне интересное предположение о том, что в словах «В пух и в прах и в бога душу» «отделить <…> иронию персонажа от иронии автора довольно сложно» [Крылов 2010], поскольку «“неверное”, раздельное произнесение героем сорта материи: в пан и в бархат… вовсе не свидетельствует о малограмотности урки, произносящего этот текст, а – может являться и следствием языковой игры в речи персонажа. А тогда мы вправе подозревать его иронию и во второй строке, то есть – говорить о… сознательном перенесении смысла» [Крылов 2010, разрядка принадлежит А.Е. Крылову]. Такой вывод о языковой игре и, соответственно, иронии со стороны не только автора, но и персонажа можно сделать и относительно без вести павших из «Баллады о детстве».
Таким образом, при обращении к окказиональному фразеологизму «без вести павшие» можно вести речь и о реконструкции определенных черт авторского мироощущения через авторскую оценку персонажа, и об обращении к авторскому мироощущению через соотнесение (и даже отождествление в этом соотнесении) позиции автора и позиции персонажа. И то, и другое можно увидеть в окказиональном фразеологизме, возникающем в речи персонажа, характеризующем этого персонажа, характеризующем авторское отношение к персонажу, наконец, выступающем знаком определенных граней мироощущения автора. А такая близость автора и персонажа характерна не только для лирики Высоцкого, но и для лирики вообще, когда «конструируя определенную индивидуальность, автор не только проводит эксперимент по моделированию иного типа лирического субъекта, но и пытается обнаружить и обозначить собственную идентичность» [Арнаутова 2022, 5].
Список литературы Окказиональный фразеологизм как способ экспликации и характеристики субъекта речи в «Балладе о детстве» Владимира Высоцкого
- Арнаутова В.В. Персонаж, маска и имидж в русской поэзии рубежа тысячелетий: автореф. диc. … к. филол. н. Казань, 2022. 22 с.
- Бабенко В.Н. Своеобразие ролевой лирики В. Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 201–206.
- Волкова Н.В. Авторское «я» и «маски» в поэзии В.С. Высоцкого: авто-реф. диc. … к. филол. н. Тверь, 2006. 20 с.
- Воронова М.В. Стилистические средства маркировки лирического и ролевых героев В.С. Высоцкого // Высоцкий: Исследования и материалы. Воронеж: ВГПУ, 1990. С. 117–128.
- Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. / предисл. С. Высоцкого; подгот. текста и коммент. А. Крылова. М.: Художественная литература, 1991. 639 с.
- Гасанова М.А. Автор и герой в поэзии В.С. Высоцкого: автореф. диc. … к. филол. н. Махачкала, 2005. 20 с.
- Голдышева О.А. Художественное своеобразие ролевой лирики В.С. Высоцкого // Актуальные проблемы литературоведения, языкознания и культуры восточной Сибири, Монголии и Китая. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции молодых ученых. Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ВСГИК, 2020. С. 19–25.
- Жабаева Ю.И. Структурно-семантические и функциональные особенности окказионализмов В. Высоцкого: автореф. диc. … к. филол. н. М., 2010. 22 с.
- Изотов В.П. Окказионализмы В.С. Высоцкого. Опыт словаря // Электронный источник. URL: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/izotov-okkazionalizmy-vysockogo.htm (дата обращения 01.08.2023).
- Кихней Л.Г. Лирический субъект в поэзии В. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2007–2009 гг. Воронеж: ВГПУ, 2009 С. 9–42.
- Климакова Е.В. Ролевое начало и проблема лирического героя в поэзии В.С. Высоцкого // Сибирский филологический журнал. 2011. № 2. С. 74–78.
- Константинова С.К., Евсеева И.В. Звуковые каламбуры в поэзии В.С. Высоцкого // INCIPIO. 2018. № 3. С. 35–40.
- Корман Б.О. Избранные труды. Теория литературы. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2006. 551 с.
- Крылов А.Е. Авторские фразеологизмы Высоцкого (дополненная версия) // Livejournal. URL: https://ae-krylov.livejournal.com/14525.html (дата обращения 01.08.2023).
- Липовецкий М.Н. Нет, ребята, все не так: гротеск в русской литературе 1960–80-х годов. Екатеринбург: АМБ, 2001. 60 с.
- Митина А.А. Фразеологизмы в поэзии В.С. Высоцкого как фактор формирования языковой личности: автореф. диc. … к. филол. н. Тамбов, 2016. 24 с.
- Моисеева А.А. Эволюция ролевой лирики на рубеже XIX–XX веков: формирование ролевого героя нового типа: автореф. диc. … к. филол. н. Пермь, 2007. 19 с.
- Орзиева Л.Н. Стилистическое использование фразеологических единиц в произведениях В. Высоцкого // Проблемы педагогики. 2018. № 2(34). С. 31–33.
- Туркина Б.В. Индивидуально-авторские фразеологизмы в структуре языковой личности поэта (на материале поэзии В. Высоцкого) // Актуальные проблемы филологии. Сборник материалов Всероссийской научной конференции (25 декабря 2017 г.). Вып. 2. / отв. ред. Е.Р. Ратушная. Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2018. С. 126–130.
- Шилина О.Ю. Поэзия Владимира Высоцкого: нравственно-психологический аспект: автореф. диc. … к. филол. н. СПб., 1998. 16 с.