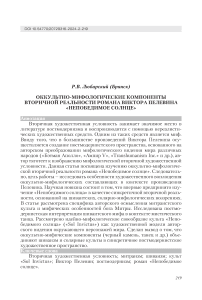Оккультно-мифологические компоненты вторичной реальности романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"
Автор: Любарский Р.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (69), 2024 года.
Бесплатный доступ
Вторичная художественная условность занимает значимое место в литературе постмодернизма и воспроизводится с помощью нереалистических художественных средств. Одним из таких средств является миф. Ввиду того, что в большинстве произведений Виктора Пелевина осуществляется создание постмодернистского пространства, основанного на авторском преобразовании мифологического видения мира различных народов («Бэтман Аполло», «Ампир V», «Transhumanism Inc.» и др.), автор тяготеет к изображению мифологической вторичной художественной условности. Данная статья посвящена изучению оккультно-мифологической вторичной реальности романа «Непобедимое солнце». Следовательно, цель работы - исследовать особенности художественного воплощения оккультно-мифологических составляющих в контексте произведения Пелевина. Научная новизна состоит в том, что впервые предпринято изучение «Непобедимого солнца» в качестве синкретичной вторичной реальности, основанной на шиваитских, солярно-мифологических воззрениях. В статье рассмотрена специфика авторского осмысления митраистского культа и мифических особенностей бога Митры. Исследована постмодернистская интерпретация шиваитского мифа в контексте мистического танца. Рассмотрено идейно-мифологическое своеобразие культа «Непобедимого солнца» («Sol Invictus») как художественной модели авторского видения окружающего персонажей мира. Сделан вывод о том, что оккультно-мифические компоненты (черный камень, танец и др.) объединяют шиваизм и солярные культы в синкретичное постмодернистское художественное пространство.
Вторичная художественная условность, митраизм, шиваизм, культ «sol invictus», виктор пелевин, постмодернизм, роман «непобедимое солнце»
Короткий адрес: https://sciup.org/149146224
IDR: 149146224 | DOI: 10.54770/20729316-2024-2-219
Текст научной статьи Оккультно-мифологические компоненты вторичной реальности романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"
Secondary artistic convention; Mithraism; Shaivism; cult “Sol Invictus”; Victor Pelevin; postmodernism; novel “The Invincible Sun”.
Вторичная реальность занимает значимое место в литературе постмодернизма. Ее возникновение обусловило осмысление иного, расширенного подхода к изображению действительности, отличного от реалистического. Ее изучением занимались такие исследователи, как Н.В. Голубович, В.Ю. Грушевская, Д.В. Кобленкова и др. [Голубович 2007; Грушевская 2007; Кобленкова 2023]. Изображение вторичной условности в постмодернистских произведениях часто осуществляется с помощью мифологизации составных компонентов художественного мира автора. Неслучайно, по мнению М. Элиаде, «мифы раскрывают структуру реальности и показывают множественные модальности бытия в мире» [Элиаде 1996, 15]. В романах Пелевина данный прием является одним из основополагающих. Вторичная условность в произведениях постмодерниста, реализованная с помощью мифа, стала предметом исследования многих ученых-филологов [Иванова 2012; Сердобинцева 2012; Булгаков 2014]. На наш взгляд, особое внимание заслуживает исследование вторичной реальности романа «Непобедимое солнце», воссозданной на основе шиваизма, митраизма, а также культа «Непобедимого солнца», оттененного художественно адаптированным историческим фоном.
Постмодернистская картина мира романа «Непобедимое солнце» является синкретичным пространством на основе шиваитских компонентов, а также компонентов солярных мифов, которые неотделимы от жизнедеятельности главных героев. Их функциональные особенности приобретают мистический характер и рассматриваются в пределах мифологизированной реальности. Центральный персонаж «Непобедимого солнца» Саша Орлова совершает мистическое путешествие, в ходе которого она осознает открывшейся ей принцип построения мироздания. Однако странствие Саши возникло вследствие желания повстречать бога Шиву. Девушка вспоминает случай, произошедший с ней определенное время назад, связанный с восхождением на Аруначалу. Пелевин поясняет, что «Арунача-ла – это священная гора, где Рамана провел практически всю свою жизнь» [Пелевин 2023, 37]. Упоминание Раманы Махарши – катализатор к мифическому осмыслению горы в контексте шиваизма – индуистского направления, в основе которого почитание Шивы как верховного бога. Неслучайно учение Махарши было направлено на познание Шивы в качестве высшего начала.
В одном из шиваитских текстов, «Шива-Махупаране», рассказывается о споре Брахмы и Вишну о божественном могуществе. Данный конфликт был разрешен Шивой, который превратился в бесконечный поток огня – лингам (не антропоморфная ипостась Шивы). Вследствие этого, Брахма и Вишну «оба поклонились Шиве снова и снова. Он, т.е. Вишну, стоял рядом с подавленным умом, ибо также был околдован Шивамай-ей» [Шива-Махапурана…]. В свою очередь, составитель бесед с Махарши О.М. Могилевер описывает биографию гуру, мифологизируя Аруначалу как дальнейшую конечную метаморфозу Шивы.
Могилевер утверждает, что «оставив дом, юноша отправился к священной горе Аруначале, воплощению Шивы, или Абсолюта. Ведь именно Шива, воплотившийся в Аруначале, Аруначала как личный Бог [Аруна-чалешвара] явился внутренним Учителем, внутренним Гуру тамильского юноши Венкатарамана, который в 1907 году стал известен как Бхагаван Шри Рамана Махарши…» [Беседы с Шри Раманой… 2006, 20]. Вследствие этого, Пелевин воспроизводит Аруначалу постигаемой главной героиней паломническим путем. Также постмодернист изображает встретившегося ей Ганс-Фридриха в качестве персонифицированного воплощения учения Махарши. Тем самым, осуществляется связь постмодернистского пространства с шиваитскими принципами посредством соотнесения горы с жизнеописанием гуру (биографический аспект), а также упоминания последователя шиваитского учения. Не менее важным аспектом является подчеркнутая Пелевиным аналогичность Аруначалы Шиве, являющаяся эпицентром воззрений Раманы. Достижение Сашей вершины приравнивается к достижению «уровня Шивы», а по пути «из земли торчал остриями вверх мощный металлический трезубец – знак Шивы» [Пелевин 2023, 50]. В итоге, Пелевин изображает гору неотделимо от Шивы как осмысленный Раманой шиваитский миф. Данный аспект необходим автору для интеграции шиваизма в окружающую среду персонажей и последующего осмысления их функциональных особенностей. Именно внедрение шиваитского компонента – Аруначалы, а значит, и Шивы, позволяет постмодернисту формировать целостный образ главных героев в качестве трансцендентных субъектов. Это объясняется их связью с данными мифологемами, что способствует раскрытию их мистического потенциала.
Пелевин моделирует и самого Шиву как видение, возникшее в сознании Саши. Героиня «угадывала танцующую в облаках золотую фигурку бога… Ой, как много обещал… Я даже в какой-то момент приревновала – это всем он так много обещает или только? “Я хочу встретить тебя, танцующий бог…”» [Пелевин 2023, 52] Автор по-прежнему мифически соотносит Шиву с Аруначалой, однако во взаимодействии с героиней он предстает антропоморфным образом. Гора же осознается как исключительное место, способствующее взаимосвязи человека и бога. Пелевин акцентирует внимание на шиваитской природе трактовки образа Шивы, наделяя его чертами танцующего бога. Причем эпитет «золотой» соотносится как с внешней характеристикой индийских бронзовых статуэток Натараджа, так и с огненным лингамом Шивы. Внедряя танцующего Шиву в контекст общения с Сашей, автор мифологизирует дальнейший сопряженный с ней сюжет: танец будет играть важную роль в ее жизненном пути. Конструирование танца в пространстве «Непобедимого солнца» осуществляется в процессе моделирования мифоэлементов, в том числе и шиваитских.
О.П. Вечерина пишет, что каждый атрибут шиваитского Натараджа «символизирует тот или иной аспект панчакритья: творение – это барабанчик, сохранение – рука в мудре надежды, разрушение – это огонь, тиробхава (сокрытие) – нога, попирающая Апасмару, и нога, поднятая вверх — освобождение (мукти)» [Вечерина 2020, 80]. Танец бога (тандава) сочетает в себе цикл, состоящий из созидания (барабанчик), сохранения (рука) и разрушения (огонь). Шива играючи созидает и уничтожает реальность, однако его тандава поддерживает существование и создание действительности, прекращение танца означает аналогичный исход для мира.
Осмысляя тандаву практически, Д.М. Сундуй пишет о том, что «Шива – могущественный бог созидания и разрушения предстает <…> в образе космического танца, открывая людям “цель пути” – освобождение от земных иллюзий и достижение просветления» [Сундуй 2014, 188]. При этом шиваизм – это производное явление также ведической традиции. Ю.В. Першина отмечает, что «имя Шива в “Ригведе” – эпитет грозного бога Рудры, чьи функции, в основном, разрушительные. В “Упанишадах” Рудра становится одним из богов, воплощающих Абсолют, всеобщее духовное первоначало бытия (Брахман-Атман)» [Першина 2014, 17].
В романе происходит дальнейшее постмодернистское освоение мистической сущности танца – освобождения от иллюзии. «Львиноголовый» эон (божественная эманация) осознает реальность мнимым явлением, которое конструируется с помощью божественного вмешательства. В качестве «проектора» для репрезентации иллюзии эон называет камень, представляющий собой смыслообразующий феномен культа «Непобедимое солнце». Бог поясняет: «Проектор “Непобедимое солнце”, одушевленная машина, порождающая человеческий план реальности, делает то, что ни один из земных проекционных аппаратов не в силах совершить: выбирает одну из фигурок и дает ей пульт управления иллюзией» [Пелевин 2023, 656]. При этом остановка работы «проектора» посредством танца способствует окончательному разрушению действительности. Как говорит эон, «“Непобедимое солнце”, таким образом, перестает быть непобедимым по своей воле» [Пелевин 2023, 657]. Тем самым, происходит постмодернистское включение шиваитского принципа избавления от земной иллюзии на основе сочетания культового компонента (камень) и Натараджа, олицетворенного с человеком. Причем данный аспект обусловлен художественным переносом мистической функции с бога на человека.
Функциональная особенность танцующего Шивы, связанная с неразрывностью созидания, сохранения и разрушения, реализуется в диалоге волхвов с древнеримским правителем Варием, в ходе которого императору было предложено с помощью танца разрушить реальность, а затем воссоздать ее заново, тем самым сохранив текущий мировой порядок. Однако второй предложенный путниками вариант – уничтожить ткань мироздания без дальнейшего созидания, высвободив «мировую душу», является следствием авторского осмысления функции Натараджа как исключительно разрушительной. Именно данная ипостась реализуется в образе Вария. Последний танец императора должен был способствовать исчезновению мира, что не случилось вследствие смерти танцующего. Как повествует автор, «его танец сворачивался в такую последнюю спираль, за которой уже ничего нет. Все должно было остановиться и исчезнуть» [Пелевин 2023, 601].
Впоследствии Саша и ее подруга Наоми, также репрезентирующие особенности Шивы в контексте танца, будут совершать аналогичный предложенному императору выбор в кульминационной фазе произведения. Наоми решает сохранить повседневность, однако трагическое развитие событий не позволило ей реализовать собственный выбор. После смерти подруги, не успевшей завершить свое магическое танцевальное действо, Саша становится идентичной Натараджу: «…золотая фигурка танцевала в лиловом облаке, и мы глядели на нее вместе с Со. Так это была я сама? А почему нет, ответила Со. Кто сказал, что женщина не может быть Шивой?» [Пелевин 2023, 672]. Она признается, что «стала танцевать. Тот самый танец, который столько времени репетировала в Москве перед своей поездкой <…> …и мир ужался <…>. Я заново создала весь этот гребаный мир…» [Пелевин 2023, 675] Автор поэтапно изображает процесс уничтожения и создания мира со стороны Саши.
Таким образом, образ Саши и Наоми представляет собой синтез мифических шиваитских особенностей Натараджа (танец как созидание / разрушение / сохранение) в постмодернистском мире «Непобедимого солнца».
Следует отметить, что преимущественно хтоническая особенность Шивы (разрушение) и освобождение от иллюзорного мира являются неотделимыми друг от друга компонентами, сосредоточенными в образе Вария. С помощью данных мифических особенностей автор характеризует персонажей как носителей сверхъестественных способностей, что позволяет им влиять на изображенный в романе миропорядок. Следовательно, Пелевин подчеркивает значимую роль героев в художественном мире «Непобедимого солнца». Шиваитские компоненты служат и для репрезентации структурированности мира, в пределах которого осуществляется противопоставление созидательных и разрушительных начал.
Пелевин сакрализирует момент встречи с Шивой. Как говорит Ганс-Фридрих, обращаясь к Саше, «назови как хочешь. Назови это тайной мира. Сердцем всего. Ты говорила, на тебя посмотрел Шива» [Пелевин 2023, 53]. Девушка стремится достигнуть места пребывания бога, которое представляется ключом к познанию сущности явлений, доступной избранным. Неслучайно общение с Шивой становится возможным лишь для Орловой, в то время как восхождение на Аруначалу она осуществляла с подругой и Гансом-Фридрихом. Тем самым, автор проецирует эзотерическое путешествие в ирреальное пространство, осознаваемое в виде мифического атрибута Шивы. Следование по данному пути неотделимо от божественных «знаков». Недаром Ганс-Фридрих призывает Орлову довериться «знакам», а также научиться их читать. «Знаки» представляют собой отправляемые богом или иной инобытийной силой зашифрованные послания. С помощью них трансцендентная сущность взаимодействует с человеком, осуществляет общение с ним. Пелевин превращает Орлову в избранную высшими силами девушку, способную осмыслять божественные «указания», смоделированные в контексте шиваитского мировиде-ния. «Знаки», ведущие героиню, художественно приобщаются к постижению Шивы-Натараджа.
Так, один из «знаков» репрезентируется в рамках онеройсферной действительности. В произведении находим: «Ночью мне снилось, будто я все еще иду в Софию <…>. За всю дорогу я ни разу не увидела самого собора – сначала его заслоняли архитектурные кораллы, затем он навис прямо над головой невыразительно вертикальной стеной, а потом я была уже внутри» [Пелевин 2023, 89]. Онейросферное «указание» заключало в себе скрытое сообщение о том, что героине следовало бы оказаться в соборе Святой Софии в Стамбуле. Когда Саша туда попала, она встретилась с девушкой-эоном Со. В том же сне Орлова увидела павлина, хвост которого был изображен на корме яхты эона. Подобные онейросферные феномены обусловлены предопределенностью встречи героини и божественной сущности.
С одной стороны, эзотерическое осмысление «указаний» свидетельствует о влиянии на постмодерниста «знаковой» концепции писателя-эзотерика Карлоса Кастанеды, книги которого отражают шаманские воззрения индейцев яки. В кастанедовских произведениях могущественных мистический феномен «дух» дает воинам и «нагвалям» «знаки» («проявление духа», «жесты духа»). Думая, учить ли дона Хуана эзотерическому искус- ству, маг Хулиан получил «такие указания духа, как, во-первых, маленький смерч, который поднял конус пыли на дороге в паре метров от лежащего дона Хуана» [Кастанеда 2016, 297].
С другой – пелевинские «знаки» представляют собой проекцию христианской специфики общения человека и бога в постмодернистский мир. В Библии сон – один из способов донесения воли Бога по отношению к человеку. В книге Иова находим: «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом» (Иов 33: 14–18). В итоге, на основе вышесказанного создается эзотерико-мифологическая плоскость вокруг шиваит-ской составляющей в пределах вторичной постмодернистской реальности. Отнесенность Орловой к «знакам» позволяет Пелевину сакрализировать данного персонажа и изобразить его в качестве одного из центральных феноменов эзотерической картины романа. Она становится одним из смыслообразующих субъектов, превращающих собственное пребывание за границей в эзотерическое странствие.
Посредством «знаковой» модели Пелевин мистифицирует жизнеописание римского правителя Марка Аврелиана Севера Антонина (Каракаллы). Греческий историк Геродиан связывает смерть Каракаллы с тем, что «Антонин, живший в то время в Месопотамии, в Каррах, захотел выехать из своего дворца и отправиться в храм Луны, чрезвычайно почитаемый жителями той земли. <…> Марциалий <…> подойдя к нему сзади как раз в то время, когда тот снимал с бедер одежду, он наносит удар кинжалом, который незаметно держал в руках» [Геродиан 1995, 187]. В «Непобедимом солнце» отчасти упоминаются биографические данные императора, связанные с его смертью. Однако в постмодернистском художественном пространстве романа его судьба неразрывна с онейросферными «указаниями» и мифоэлементами солярного и лунного культов. Фрэнк, магическим образом следуя по пути Каракаллы, рассказывает, что «в конце своего правления Каракалла ездил в храм лунного бога <…>. Так вот, Каракаллу привел туда сон» [Пелевин 2023, 136]. Помимо геолокационной связи Каракаллы с мифонимом, автор осуществляет отнесенность императора к солярной и лунной мифологии посредством магических предметов. Повторять судьбу Антонина Севера Фрэнку, временному спутнику Саши, помогают маски Солнца и Луны, в которых присутствует часть черного камня. Рассказ о Каракалле воплощается неотделимо от мистических предметов, при этом Фрэнк в восприятии Орловой становится тождественен императору.
Мифология, сконструированная Пелевиным вокруг образа Каракаллы и Фрэнка, основана на митраистских воззрениях. Воплощая в себе Антонина Севера, Фрэнк произносит: «Из богов, древних и новых, мне больше всего нравился солнечный бог Митра» [Пелевин 2023, 147]. Жизнь Каракаллы мифологизируется с помощью его связи с митраизмом, а точнее – с древнеиранским богом Митрой. Митраизм представляет собой сакральный религиозный культ, включающий почитание одноименного солярного бога. Мифологизация Антонина Севера в постмодернистском произведении неслучайна: мистерии Митры были распространены в Римской империи. Ю.В. Куликова обозначает связь культа Митры с другим римским правителем – Аврелианом, сделавшим солярный культ государственным: «Митра – отзывчивый бог, исполняет просьбы и обеспечивает материальное благополучие <…>. Поэтому, с одной стороны, Митра, являясь образцом для подражания в жизни, сближался с образом императора, с другой стороны, приход к власти императора Аврелиана и его стремления по восстановлению единства и мощи Римского государства вполне могли ассоциироваться с Митрой» [Куликова 2017, 59].
Стоит отметить, что Пелевин воспроизводит особенности Митры как солярного бога с точки зрения римской интерпретации, в то время как в «Авесте» (памятнике древнеиранской литературы) он не ассоциируется ни с Солнцем, ни с Луной. Однако индивидуально-авторская интерпретация, приравнивающая Каракаллу к Митре (император считал себя маленьким Солнцем), а также приобщенное к образу императора ночное светило свидетельствует о постмодернистском переосмыслении солнечного бога как вместилища лунной мифологемы. Так, на стене митреума (храма в честь солярного бога) Каракалла увидел «обычное изображение Митры, убивающего быка – а над ним круглые щиты с лицами Луны и Солнца. Лицо было таким прекрасным и нежным, что я попросил сделать мне его копию на золотом медальоне, и с тех пор носил с собой» [Пелевин 2023, 150]. Тем самым, лунная символика становится атрибутом Антонина Севера, а значит и самого Митры.
Автор вводит исторических субъектов с целью сооружения благоприятного исторического фона для мифического освоения вторичной условности романа. Так, от Фрэнка Саша узнает о родителях Каракаллы – Юлии Домне и Септимии Севере, который говорил, что «полезнее вместе с солдатами поклоняться Митре» [Пелевин 2023, 149]. Культ Митры преподносится как аллюзия на реформы Септимия, правление которого создало почву для становления восточных культов как ведущих в Римской империи, в том числе древнеиранских митраистских мистерий. Однако подобные солярные воззрения возникли и «благодаря его жене, Юлии Домне, происходившей из Эмесы в Сирии, где и был расположен Храм Солнца» [Куликова 2017, 60]. Поклонение Митре со стороны солдат способствует моделированию Митры в качестве бога с особыми функциональными особенностями. Связь бога с солдатами обусловлена не только распространением веры в него в рядах армии, а также освоением древнейшей черты Митры, заключающейся в покровительствованном отношении к воинам. Также митраистский культ является следствием авторского отражения исторического объединения римского общества, в особенности воинов, мировоззрению которых был близок солнечный бог.
Митраизм предполагает осознание божественной сущности через личное общение человека с ней. Постмодернист воссоздает митраистскую картину действительности и благодаря данной черте. Фрэнк через солнеч- ную маску взаимодействует с Каракаллой, становясь с ним единым целым. Однако данное общение имеет сенситивный характер: спутник Орловой ощущает присутствие императора с помощью магической вещи и таким образом сближается с ним духовно, получая на эмпатическом уровне информацию о его жизнедеятельности. Митраистский культ адаптируется Пелевиным также в контексте инобытийного мира. Варий попадает в онейросферное пространство, в котором он подвергается опасности – его жизни угрожает бык. Единственный способ его остановить – танец. Варий признается: «Мой танец не смог остановить быка, но задержал его, словно опутав сетью: чем быстрее я плясал, тем медленнее чудище надвигалось» [Пелевин 2023, 303].
В онейросфере воссоздается тавроктония, преобразованная в индивидуально-авторском восприятии Пелевина. Тавроктония – акт ритуального жертвоприношения быка Митрой. Заклание воспроизводилось на стенах митреумов, которое и увидел Каракалла в одном из них, согласно «Непобедимому солнцу». Оно имеет мифическое значение: «Самым знаменитым подвигом Митры была победа над священным быком, поэтому и изображали его часто в виде тавроктона. А одной из главных мистерий культа является тавроктония, что есть принесение Митрой в жертву большого быка, которого Ахурамазд создал в начале времен. Жертвоприношению предшествует, конечно, подчинение Митрой этого быка» [Пильнико-ва 2020, 19]. Митра, с точки зрения древнеиранских мифов, противостоит Ахурамазду, богу, пребывающему в бесконечном свете, а значит, самому Солнцу. Однако заключение мира между ними позволило митраистам считать Митру «Sol Invictus».
Постмодернист видоизменяет данный миф, превращая быка в быкоподобное хтоническое препятствие на пути к постижению солярного бога. Вместе с тем, Варий реализует принцип подчинения быка Митре, заставляя с помощью танца чудовище находиться на приемлемом для себя расстоянии. А впоследствии танец становится катализатором гибели быка. Сплясав вместе с императором, «бык шарахнулся назад – и свалился во мрак, сорвавшись с края площадки» [Пелевин 2023, 305]. Следовательно, Варий в сновидческой реальности приобретает функции солярного бога, а хтоническое создание – его воплощенного визави. Таким образом, конструирование окружающего мира персонажей происходит за счет ми-траистских воззрений, которые реализуются в художественной проекции мифических особенностей Митры, римского осмысления данного культа, а также постмодернистской интерпретации сопряженных с ним явлений. Следует отметить, что физическое проявление убийства быка Митрой с помощью кинжала в спину преобразуется Пелевиным в танец. При этом функциональное назначение танца осмысляется как шиваитский феномен. Разрушительная ипостась Шивы способствует исчезновению хто-нического создания с пути следования Вария. Художественная адаптация митраизма способствует изображению мифической реальности как неизменной составляющей повседневности персонажей. Солярный миф становится неотделимой частью жизни перевоплотившегося в Каракаллу
Фрэнка, а также римских императоров. Однако митраизм является и средством воплощения идеи единения человеческого и божественного в лице данных персонажей.
Эзотерическая соотнесенность Митры с «Sol Invictus» дала основание автору включить элементы одноименного культа, выросшего из ми-траизма, в собственное произведение. Постмодернист культ связывает с определенными составляющими: сирийским богом солнца Элагабалом, императором Варием Авитом и черным камнем. Эон Тим рассказывает Саше, что «Маленький Варий танцевал для бога Солнца <…>. Но солнечное божество Эмесы связано с каноническим черным камнем – главной храмовой святыней. Став императором, Элагабал – нового императора прозвали в честь его бога, как Каракаллу в честь его накидки – стал возить эту святыню с собой» [Пелевин 2023, 271]. В романе осуществляется репрезентация отождествления Элагабала с камнем и императором Варием, что является основой существовавшего в Древнем Риме культа «Непобедимого солнца». Варий, он же Марк Аврелий Антонин Август, «вошел в историю под именем Гелиогабала. В Эмесе, еще будучи юношей, Марк был посвящен в жрецы финикийского бога Солнца Элагабала. Во время своего правления в Риме он занимался главным образом введением культа поклонения Солнцу и постройкой храмов в честь этого божества» [Мостовщикова 2009, 189].
Пелевин воспроизводит не только элементы культа, но и историческую личность, тем самым передает специфику почитания Элагабала. По мнению А.Ю. Ильиной, выбор камня в качестве основополагающего предмета поклонения культистов неслучаен. Исследователь отмечает, что «культ проявлялся в поклонении черному коническому камню, закругленному к низу, который считался своеобразным изображением солнца» [Ильина 2022, 415]. Однако мифологизированность вторичной условности романа предполагает дальнейшее художественное преобразование «Sol Invictus», а также его компонентов в виду восприятия повседневности как мифической производной. Солярный культ возникает в контексте постмодернизма во взаимодействии с шиваизмом и митраиз-мом. Описанная выше битва Вария с чудовищем сопровождается призывом сирийского бога, а разрушительный шиваитский танец императора, а также созидательно-разрушительный танец Наоми и Саши происходит перед камнем. Тем самым, «Sol Invictus» приобретает как шиваитские особенности, так и митраистские.
Стоит отметить, что в изображении мифически воссозданной вторичной условности не менее важную роль играет постмодернистская ирония. Мир, сконструированный Сашей с помощью танца Натараджа перед камнем «Sol Invictus» оказывается ироничной аллюзией на современность. Так как Орлова во время создания думала про маски – на Земле свирепствует эпидемия, которая «отличается от плохого гриппа в основном хорошим пиаром» [Пелевин 2023, 695]. Автор насмехается над чрезмерной активностью в информационном поле относительно данного события. Благодаря анимальной словоформе, а также сходству признаков биологического и компьютерного вирусов угадывается ироничное отношение к коронавирусной инфекции. По мнению Ганса-Фридриха, причина эпидемии – «биологический вирус – такая же программа, как компьютерный. Люди варят суп из летучих мышей, мышам это не нравится – и появляется мышиный код от людей» [Пелевин 2023, 696]. Подобно митра-изму, культ «Непобедимого солнца» функционирует в романе в виде явления, способствующего внедрению мистических составляющих в повседневную жизнь героев. Помимо этого, «Sol Invictus» в сочетании с шиваизмом способствуют репрезентации постмодернистского мира, гибкого по отношению к трансформации различного характера. Изображение культа помогает Пелевину воссоздать и постмодернистскую иронию, основанную на насмешке над событиями обыденной действительности. Именно камень проецирует реальность, связанную с болезнью. Неслучайно концентрация на масках с частью «Sol Invictus» послужила фундаментом для иного мира. При этом солярные и шиваитские компоненты позволяют автору противопоставить мифореальность созданному Орловой миру. В виду наличия мифологических элементов «солярная» и «шиваитская» действительность является пространством для построения зависящей от танцора системы, которая контрастирует с пораженной болезнью реальностью, лишенной возможности мистического преобразования.
Таким образом, оккультно-мифологический характер романа Пелевина, обусловлен тем, что вторичная реальность «Непобедимого солнца» является следствием освоения различных мифологических систем. Внедрение и постмодернистское осмысление религиозно значимого предметного атрибута «Sol Invictus», а также связи культа с инобытием свидетельствует об оккультной природе произведения. Не менее важную роль в создании оккультно-мифологической модели действительности играет проекция религиозного почитания Митры и Элагабала.
Шиваитские и солярные мифоэлементы служат сегментами, объединяющими данные мифосистемы в единое постмодернистское пространство. Одной из подобных составляющих является танец Натараджа, осуществляемый перед черным камнем и онейросферным быкоподобным созданием, что сливает воедино шиваизм с митраизмом и культом «Непобедимого солнца». А упоминание Элагабала в контексте постмодернистски освоенной тавроктонии свидетельствует о неотделимости митраизма и «Sol Invictus».
Список литературы Оккультно-мифологические компоненты вторичной реальности романа Виктора Пелевина "Непобедимое солнце"
- Беседы с Шри Раманой Махарши. Как быть Собой - чистым Счастьем: в 2 т. Т. 1. М.; Тируваннамалай: «Ганга» - Шри Раманашрам, 2006. 472 с.
- Булгаков Р.Ю. Эсхатологический миф в романах В. Пелевина 90-х годов ХХ века // Литература и лингвистика: вчера, сегодня, завтра: II Всероссийская научно-практическая интернет-конференция (Казань, 25 ноября 2014 г.). Казань: ИП Синяев Д.Н., 2014. С. 9-15.
- Вечерина О.П. «Унмей вилаккам» и формирование иконологии Шивы На-тараджи в традиции шайва-сиддханты // Asiatica: Труды по философии и культурам Востока. 2020. Т. 14. № 1. С. 70-85.
- Геродиан. История императорской власти после Марка в восьми книгах. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 1995. 280 с.
- Голубович Н.В. Эволюция вторичной художественной условности в прозе М.А. Булгакова // Новые педагогические исследования. 2007. № 1. С. 40-42.
- Грушевская В.Ю. Становление поэтики необычайного в творчестве Анатолия Кима // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 303. С. 10-14.
- Иванова М.Н. Цитаты из биографического мифа в романе Виктора Пелевина «t» // Известия Смоленского государственного университета. 2012. № 1(17). С. 73-80.
- Ильина А.Ю. Элагабал и его прозвища // Лига исследователей МГПУ: сборник статей студенческой открытой конференции: в 4 т. Т. 2. М.: МГПУ, 2022. С. 414-418.
- Кастанеда К. Огонь Изнутри. Сила Безмолвия. М.: София, 2016. 512 с.
- Кобленкова Д.В. Нереалистическая литература vs вторичная художественная условность в советском и постсоветском литературоведении: проблемы изучения // Культура и текст. 2023. № 1(52). С. 6-18.
- Куликова Ю.В. Место культа Митры в религиозной реформе императора Аврелиана // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. № 4. С. 52-66.
- Мостовщикова Е.А. Сакрализация власти в Римской империи и культ солнца // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2009. Т. 2. № 3-2. С. 186-193.
- Пелевин В. Непобедимое солнце. М.: Эксмо, 2023. 704 с.
- Першина Ю.В. История религий: учебно-методическое пособие для учителей, преподающих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Киров: ИРО Кировской области, 2014. 68 с.
- Пильникова Е.А. Культ Митры и его распространение в Римской Британии // International Scientific Review of History, Cultural Studies and Philology. Collection of Scientific Articles XI International Correspondence Scientific Specialized Conference "International Scientific Review of History, Cultural Studies and Philology" (Boston, USA, January 26-27, 2020). Boston: Problems and science, 2020. С. 15-21.
- Сердобинцева Е.А. Выявление авторской интерпретации античного мифа при анализе романа Виктора Пелевина «Шлем ужаса» // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 13(268). С. 103-108.
- Сундуй Д.М. Индийский танец сахаджа йоги // Культура. Духовность. Общество. 2014. № 9. С. 184-192.
- Шива-Махапурана. Фрагменты из Видьешвара-самхиты и Рудра-самхиты в переводе Шрипады Садашивачарьи Ананданатхи Каулавадхуты [Расшифровка]. URL: https://studfile.net/preview/5455649/ (дата обращения: 05.01.2024).
- Элиаде М. Мифы. Сновидения. Мистерии. М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1996. 288 с.