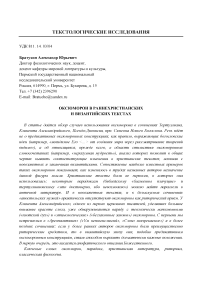Оксюморон в раннехристианских и византийских текстах
Автор: Братухин Александр Юрьевич
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Текстологические исследования
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье даётся обзор случаев использования оксюморона в сочинениях Тертуллиана, Климента Александрийского, Псевдо-Дионисия, прп. Симеона Нового Богослова. Речь идёт не о предикативных оксюморонных конструкциях, как правило, выражающих богословские идеи (например, «невидимое Его от создания мира через рассматривание творений видимо»), а об относящихся, прежде всего, к области стилистики оксюморонных словосочетаниях (например, «неразумная мудрость»), анализ которых позволит в общих чертах выявить соответствующие изменения в христианских текстах, начиная с новозаветных и заканчивая византийскими. Сопоставление наиболее известных примеров таких оксюморонов показывает, как изменялось в трудах названных авторов назначение данной фигуры мысли. Христианские тексты были не первыми, в которых она использовалась: некоторым парадоксам (библейскому «блаженны плачущие» и тертуллиановскому «это достоверно, ибо невозможно») можно найти параллели в античной литературе. И в новозаветных текстах, и в безыскусных сочинениях «апостольских мужей» практически отсутствуют оксюмороны как риторический приём. У Климента Александрийского, одного из первых церковных писателей, уделявших большое внимание красоте слога, уже обнаруживаются наряду с теологически наполненными («плотской дух») и «этимологические» («беззаконные законы») оксюмороны. С первыми мы встречаемся в «Ареопагитиках» («Ум непомыслимый», «Слово неизрекаемое») и в более поздних сочинениях: если у более ранних авторов оксюмороны были преимущественно риторическим средством, то в византийскую эпоху они, подобно предикативным оксюморонным конструкциям, стали способом выразить догматически важные положения. В первую очередь, это касается апофатического описания Божественного.
Оксюморон, парадокс, христианская литература, риторика, классическая филология
Короткий адрес: https://sciup.org/147229846
IDR: 147229846 | УДК: 811.
Текст научной статьи Оксюморон в раннехристианских и византийских текстах
Ранняя христианская литература изобилует парадоксальными утверждениями. Начало этой традиции кладут библейские тексты, как ветхозаветные, так и новозаветные. Ограничимся самыми известными примерами догматически важных парадоксов — «Се, ДТва (т| 7iap08vog) во чревТ зачнеть и родить Сына» (Ис. 7:14); «блаженны плачущие (цакарю! oi 7i8v0ouvT8g)» (Мф. 5:4).
В классической литературе слово oxymorum появляется только один раз у Мавра Сервия Гонората в комментариях на «Энеиду»: Сервий пишет по поводу слов Вергилия «неужели пленники <тевкры не> могли быть пленены (num capti potuere capi)?»: «“пленники могли быть пленены” сказано с горечью: ведь если ты это удалишь, будет оксюморон (capti potuere capi cum felle dictum est: nam si hoc removeas, erit oxymorum). Говорит же <Юнона>, что всё, случившееся <с тевкрами,> кажется неслучившимся, ибо оно не помешало <им>. А что пленники пленяются, он сказал так, как и Цицерон: “в плодороднейшей части Сицилии мы искали Сицилию”» (Maurus Servius Honoratus. In Vergilii Aeneidos libros. VII. 295).
В. С. Дуров определяет оксюморон следующим образом: «(греч. oxymoron — “остроумноглупое” — соединение двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое», — относя к оксюморонам в т. ч. цицероновские выражения «когда молчат, кричат» и «отсутствующие присутствуют» [Дуров, 2004, с. 39].
Э. Г. Шестакова выделяет следующие отличия оксюморона от парадокса: 1) «При анализе оксюморона не существует категорий верен / неверен, так как смысл оксюморона не поддаётся объяснению путём логических рассуждений, устранений допущений»; 2) «противоречие не довлеет себе в оксюмороне как в парадоксе, так как является не самоцелью, а способом осознания и реализации явления»; 3) для оксюморона «ценно столкновение извечно противоречивых явлений, понятий, приводящее к новому алогичному и анормативному смыслу»; 4) «оксюморон не может быть сведён к разновидности парадокса: он — не столько отрицание и противоречие существующим законам в широком смысле, сколько принципиальная алогичность»; 5) «специфика природы оксюморона как раз заключается в том, что он постоянно аксиоматичен» [Шестакова, 2009, с. 174-177]. Говоря о различии между парадоксом и оксюмороном, Е. А. Пигаркина пишет: «<...> в оксюмороне объединяются явления, которые не могут быть объединены друг с другом логически <...>, тогда как в парадоксе мы находим явное противоречие, которое, тем не менее, может быть правдивым» [Пигаркина, 2015, с. 350].
Основная часть
Наиболее известным ранним христианским автором, прославившимся парадоксальными утверждениями, является Тертуллиан. В частности, в трактате «О плоти Христа» он заявляет: «Распят был Сын Божий: <в этом> нет стыда, ибо <этого> должно стыдиться (non pudet, quia pudendum est). И умер Сын Божий: это точно достоверно, так как нелепо (credibile est, quia ineptum est). И погребённый воскрес: это достоверно, ибо невозможно (certum est, quia impossibile)» (Tert. De came Christi. 5, 4).
Существуют попытки дать рационалистическое толкование этого фрагмента. Э. Осборн, защищая свой взгляд на Тертуллиана как первого богослова Запада, ссылается на слова Аристотеля: «Ещё один <топ получается> из вещей, которые, по-видимому, совершаются, но кажутся сами по себе невероятными; <топ этот основывается на том>, что данные вещи не представлялись бы такими, если бы они не существовали или не были близки <к осуществлению>. И ещё более <он основан на том>, что люди верят в то, что существует или что правдоподобно; если же что-нибудь не возбуждает доверия и неправдоподобно, то оно все-таки может быть истинным (aXr|0eg av sip), ибо вещь представляется такой <,то есть истинной>, не потому что она возможна и правдоподобна (об yap 5ia уе то ыкбд кат mOavov)» (Arist. Rhetorica. II, 23, 1400 а 5-9, пер. Н. Н. Платоновой). Осборн заключает, что Тертуллиан «не первым утверждает несомненность факта на основании его невероятности» и что «предположение об иррационализме Тертуллиана не обоснованно» [Osborn, 1997, р. 5354]. Таким образом, знаменитый парадокс credo, quia absurdum, представляющий собой парафраз высказывания карфагенского автора, не может рассматриваться ни как изобретение христианского апологета, ни как доказательство алогичности его учения.
Заметим, что и второй заповеди блаженства («блаженны плачущие») также можно найти своеобразную параллель в античной литературе. Так, согласно Геродоту, царь Египта Амасис писал своему другу Поликрату: «Приятно узнать, что друг наш и гостеприимец счастлив. Но все же твои великие успехи не радуют меня <...>. Ведь мне не приходилось слышать ещё ни об одном человеке, кому бы все удавалось, а, в конце концов, он не кончил бы плохо» (Her. III, 40, пер. Г. А. Стратановского). Кажущаяся бессмысленность утверждения «блаженны плачущие» устраняется последующим объяснением («ибо они утешатся»), У Геродота царь также объясняет своё странное на первый взгляд отношение к успехам друга. Рассмотренные и подобные им христианские парадоксы при подробном рассмотрении также лишаются своей алогичности.
Ниже мы будем рассматривать оксюмороны, которые представляют собой словосочетания типа insapiens sapientia «неразумная мудрость» (ср.: Ног. Carm. I, 34, 2), оставляя за рамками исследования такие содержащие тему и рему парадоксальные апофегмы, как «невидимая бо Егю, сот создан! я Mipa твореньми помышляема, видима суть» (Рим. 1:20) [Антоний, 2009, с. 131-132] или «Злато ваше и сребро изоржавЬ» (Иак. 5:3, ср. Поел. Пер. 10-11, 23). Эта позиция обусловлена тем, что предикативные оксюморные выражения являются естественными в антиномичном по своей природе религиозном тексте, и исследование их употребления, будучи скорее богословским, чем языковым, представляется невозможным в рамках этой статьи. Анализ же оксюморных словосочетаний, относящихся в большей степени к области стилистики, чем догматики, позволит в общих чертах выявить соответствующие изменения в христианских текстах, начиная с новозаветных и заканчивая византийскими.
Найти в Библии «чистые» оксюмороны, хотя они сходны с парадоксальными утверждениями,1 сложнее (например: «вожди слЬши (б5г|уо1 тисрХо!)» в Мф. 23:24). Это, очевидно, объясняется тем, что оксюморон представляет собой образное средство языка, литературный приём, которому не было места в безыскусных текстах.
Климент Александрийский неоднократно использует оксюмороны. М. Эрреро де Хауреги только в одном его «Увещевании к язычникам» выделяет четыре примера. 1) а%рт|ота %рт|отг|р1а «бесполезные прорицалища» (Protr. 2, И, 2): «эта фонетическая словесная игра, — по мнению испанского исследователя, — с двумя различными глагольными корнями “использовать” и “изрекать оракулы” представлена Климентом как вид оксюморона, как если бы они были этимологически связаны» [Herrero de Jauregui, 2008, р. 128]. 2) dpvf|TOV<; ovrcog цит|О£к; «непосвящённые посвящения» или «профанические таинства» (Protr. 2, 22, 3): «этот оксюморон, как весь параграф, создан под влиянием Филона и тут же связан с цитатой из Гераклита, являясь продолжением прерванного описания мистерий» [Ibid., р. 143]. 3) oocpia dooqxp «глупая мудрость» (Protr. 5, 64, 3): «Климент любит создавать такого рода оксюмороны, но в данном случае это топический оксюморон: ср. Eur. Bacch. 395, и Ног. Carm. I, 34, 2» [Ibid., 194]. 4) В Protr. 10, 99, 2 вновь появляется «этимологический оксюморон» vopipcov dvopcov «беззаконных законов» [Ibid., 240]. К названным примерам можно добавить ещё два: «мирные воины (тоид £ipr|viK0U(; отративтад)», «не обагрённое кровью (dvarpaKTOv) войско» (Protr, И, 116, 2). В принадлежащем Клименту «Гимне Христу» появляется «могучий Отрок (лаюа кратвроу)». В «Строматах» александрийский автор писал о введении «страхом бесстрашия (фбРф dcpoptav), а не бесстрастия страстью (лабы алаОвгау)» (Strom. II, 8, 39, 4). Эта традиция получит продолжение в двух приписываемых свт. Иоанну Златоусту произведениях: «<Иисус Христос> страстью от страсти (ла0£1 лабоид) освободил и смертью смерть (Oavdro) Odvarov) победил» (Ioann. Chrys. In sancta Pascha. 49, 1) и «смертью смерть умертвивший (о бауатср Odvarov бауатаюш;)» (Ioann. Chrys. Precat. Vol. 64. P. 1065). Отметим, что некоторые подобные выражения (ср. тропарь Пасхи: Oavdrcp Odvarov латцсад «смертью смерть поправ») могли со временем приобретать пословичный характер. Исследуя такие паремийные тексты, мы обращаемся не только «к источнику культурно значимой информации», но и «к дискурсивному средству выражения стереотипов национальной оценки и ценностной ориентации культурно значимых смыслов» [Семененко, 2018, с. 19].
Как мы видим, все эти случаи употребления оксюморонов можно объяснить стремлением христианских авторов создать изысканные пассажи, чего не могло быть в новозаветных текстах и в безыскусных сочинениях «апостольских мужей». Есть, однако, у Климента и иные случаи употребления оксюморонов. В «Строматах» александрийский автор вслед за Орфеем использует слово цг|тролатсор «матереотец» (V, 14, 126, 2, ср. Paed. I, 6, 46, 1: «отцовские груди <...> дают молоко»), В том же сочинении появляются словосочетания то оаркгкоу лугица «плотской дух» (Strom. VI, 6, 52, 2). В таких местах мы видим желание церковного писателя выразить некую богословскую идею, а не просто украсить свою речь.
Изобилует оксюморными словосочетаниями «Ареопагитский корпус» (VI в.): «Ум непомыслимый», «Слово неизрекаемое» и другие. По мнению В. В. Бычкова, «эти почти непостигаемые разумом краткие формы <...> не на разум ориентированы. И Ареопагит, хорошо понимая это, расписывает их в целую большую книгу, не столько доказывая что-либо уму посвящённых читателей <...>, сколько обращаясь к их подсознательному, или сверхсознательному» [Бычков, 2015, с. 44-45]. Задача, которую решает Псевдо-Дионисий, отлична от задачи, которую в большинстве случаев ставил перед собой Климент. Мы имеем здесь дело не с риторическими штудиями, а со способом апофатического описания Божественного.
В поздней византийской литературе, особенно в творениях при. Симеона Нового Богослова (сер. X в. — 20-30-е гг. XI в.), оксюмороны встречаются достаточно часто. Митр. Иларион (Алфеев) приводит такие примеры: «животворящая мертвость», «сверхчувственное чувство», «неподвижно движущийся» ум, «неощутимое ощущение», «внетелесное тело», «непостижимое постижение», «невообразимый образ», «мера безмерного», «достижимо недостижимое», «несмешиваемое смешение», «начало безначального», «неизменно изменяющийся», «разделённый без разделения», «видеть безвидно», «высказывать неизреченное». Владыка Иларион замечает, что смысл таких парадоксальных утверждений «раскрывается только в контексте апофатической традиции» [Иларион, 2010, с. 231-232]. Такое описание истин, непостижимых умом, продолжает традицию, заданную учением о триедином Боге, имплицитно выраженном в Никео-Константинопольском Символе и о неслитности и нераздельности двух природ во Христе, о котором говорит Халкидонский орос: «рационалистический ум не принимает алогичную формулу “неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно" и порождает ересь монофизитства. А между тем, именно эта православная формула утвердила антиномизм как основу православной догматики, как методологию православного мировоззрения» [Остапенко, 2009, с. 112].
Заключение
В пределах статьи невозможно подробно рассмотреть изменение употребления оксюморона в христианской литературе с I по XI вв. Мы видели свою задачу в том, чтобы контурно обрисовать цели, которые ставили церковные писатели, использовавшие эту фигуру мысли, и показать в общих чертах тот путь, какой прошло оксюмороное словосочетание: от окказионального использования в Новом Завете («бремя Мое легко») и, как правило, риторического у Климента («могучий Отрок»), до догматически обусловленного у византийских авторов («Слово неизрекаемое»).
Список литературы Оксюморон в раннехристианских и византийских текстах
- Антоний (Паканич), архиеп. Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке с отдельными экскурсами в западную библеистику. Киев: Издательский отдел УПЦ, 2009. 232 с.
- Бычков В. В. Символическая эстетика Дионисия Ареопагита. Москва: ИФРАН, 2015. 143 с.
- Дуров В. С. Основы стилистики латинского языка. Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. Санкт-Петребург: Филологический факультет СПбГУ; Москва: Изд. центр "Академия", 2004. 112 с.
- Иларион (Алфеев), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание. Изд. 4-е, испр. Санкт-Петребург: Изд-во Олега Абышко, 2010. 448 с.
- Остапенко А. А. Христианский антиномизм как возможная методология психолого-педагогической науки // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология. 2009. Вып. 3 (14). С. 110-122.