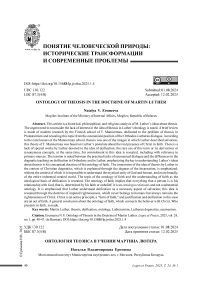Онтология теозиса в учении Мартина Лютера
Автор: Еремеева Н.В.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие человеческой природы: исторические трансформации и современные проблемы
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой историко-философский и религиоведческий анализ суждений М. Лютера о теозисе. Отмечается назревшая необходимость пересмотра устоявшегося мнения об отсутствии интереса к идее теозиса в теологии Лютера. Делается краткий обзор современных исследований финской школы Т. Маннермаа, посвященных проблеме теозиса в протестантизме и раскрывающих данную тему с экуменических позиций православно-лютеранского диалога. Согласно выводам школы Маннермаа, теозис являлся одним из образов, в которых Лютер описывал спасение, данная теория Т. Маннермаа опиралась на постулат Лютера о действительном присутствии Христа в вере. Отмечается отсутствие специальных работ Лютера, посвященных идее обожения, редкое использование данного термина или его производных или синонимических понятий, при этом раскрывается, в том числе с опорой на первоисточники, его приверженность данной идее. Отмечается напряжение между практическими задачами экуменического диалога и различиями в догматическом учении об обожении в православии и у Лютера, подчеркивается ключевая для понимания представлений Лютера о теозисе его концептуальная доктрина онтологии веры. Подчеркивается погруженность идеи теозиса у Лютера в контекст христианской догматики – христологии и сотериологии, что объясняется через догматы боговоплощения, вне контекста которого невозможно понимание мистического единения Бога и человека, и шире – всего искупленного сотворенного мира. Раскрывается тема онтологии веры и понимание веры как онтологического основания обожения. Онтология веры подразумевает, что все, чем человек является, есть его отношения с Богом, то есть определено его верой либо неверием, это «ontologia relationis», а не субстанциальная онтология. Подчеркивается, что Лютер понимал обожение как необходимый аспект спасения, что раскрывается через учение о вмененной праведности, которая никогда не принадлежит человеку, а всегда остается праведностью Христа, Христос – активно действующее начало, «форма веры», а оправдание и обожение в таком случае являются актом веры. Делается обобщающий вывод об онтологическом статусе веры, соединяющей верующего со Христом, Который реально присутствует в самой вере.
Мартин Лютер, теозис, обожение, онтология, лютеранство, лютеранская догматика, экуменизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149148182
IDR: 149148182 | УДК: 130.122 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2025.1.4
Текст научной статьи Онтология теозиса в учении Мартина Лютера
DOI:
Цитирование. Еремеева Н. В. Онтология теозиса в учении Мартина Лютера // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 1. – С. 40–47. – DOI:
Тема теозиса занимает значительное место в святоотеческом богословии, ей посвящали многостраничные тома византийские и русские православные мыслители, но согласно устоявшейся точке зрения в протестантской догматике размышлений об обожении найти практически невозможно, тем более не уделяется внимание прикладной разработке этой темы. Данное положение, принимаемое по умолчанию, создает вызов для самих теологов и исследователей протестантской традиции, поскольку, с одной стороны, ставит протестантское богословие особняком в сравнении с «традиционным» христианством, с другой – обедняет догматическую и мистическую стороны протестантского учения, история которого знала и эпоху лютеранской ортодоксии, и суровое благочестие пиетистов. Представляется, что плачевное положение современного протестантизма, блуждающего в тумане секуляризации, является следствием того же молчаливого согласия с общепринятым, но поверхностным либо ангажированным взглядом на протестантизм как на неправославное и некатолическое христианство, равно как и представление его плодородной нивой общественного прогресса [Фадеев 2016, 17]. Назревшая необходимость ревизии, причем скорейшей и радикальной, в современном научном сообществе положений о Реформации необходима не только на постсоветском пространстве, где она, казалось бы, вполне объяснима явной нехваткой фундаментальных религиоведческих и особенно богословских работ на данную тему. Ряд западных исследователей отмечает «потерю Реформации» и неспособность объяснить ее истоки и значение в контексте истории, а также проблемы вполне утилитарного свойства, возникающие, например, в ходе сбора религиозной статистики [Исаев 2018, 99]. Большое количество исследований отдельных вопросов истории и теологии Реформации и протестантизма не способствуют четкому картографированию предметного поля, а, напротив, делают его рельеф еще более размытым, ибо признание иного учения реформационным, а иного теолога протестантом зачастую становится задачей со многими неизвестными и прежде всего в отношении его догматических и нрав- ственно-теологических оснований. Тема обо-жения и является одним из тех фундаментальных краеугольных столпов христианской догматики, которые позволяют учению обрести твердую почву под ногами, определиться в конфессиональных вопросах. Находясь на пересечении нескольких теологических дисциплин, которым исторически протестантизм, как конфессиональная, по сути, ветвь христианства, уделял максимум внимания – речь идет о систематическом богословии – учение о те-озисе является одной из важнейших тем и в протестантизме. Вызывающие порой оторопь духовные практики неопротестантов, антропологические положения европейских философов позднего Нового времени, модерна и постмодерна не могут быть вполне понятыми вне связи с протестантским учением об обоже-нии. Последнее же, в свою очередь, течет в столь глубоком и извилистом русле, что проследить все его повороты является задачей поистине титанической. В данной статье я затрону только один аспект данной темы – вопрос об онтологических основаниях теози-са в учении Мартина Лютера.
Сами термины «обожение», «теозис» и их производные не находятся в Священном Писании, а имеют, как и многие христианские понятия, свои корни в глубинах греческой платонической философии. В Ветхом и особенно в Новом Завете, несмотря на отсутствие соответствующих лексем, идея обожения представлена широко, что же касается святоотеческого развития учения об обожении, то оно отражает представления о преображении человеческой природы под воздействием Божественной благодати, в результате которого человек постепенно уподобляется Богу. При этом человеческая природа не изменяет свой онтологический статус, но постепенно изменяется способ его существования [Леонов web]. В западной богословской традиции идея обожения – деификации, в латинском варианте понятия, – появляется уже у Тертуллиана, заметна у Августина Гиппонского и Иоанна Скота Эриугены, затем, как и в средневековом византийском богословии, находит свое выражение в мистике. Неудивительно, что мы обнаруживаем идею теозиса у Лютера, глубоко захваченного как мистической традицией народной религиозности, так и монашес- кой, а впоследствии в миру, медитативно-молитвенной практикой. Удивительно другое: потеря западными церквями, в том числе и лютеранской, молитвы и мистики, что еще в конце XX в. отмечал Т. Маннермаа, профессор университета Хельсинки [(Силуан) Никитин web]. Создание школой Маннермаа движения «назад к Лютеру» под названием «Новые изыскания в лютеровском богословии» привело к появлению в 1977 г. экуменического документа «Спасение как оправдание и обожение» [Керккеинен 2007, 94–95]. В нем содержался ряд положений, раскрывших идею теозиса как одного из образов, в которых Лютер описывал спасение. Революционная и в то же время вполне ожидаемая, вызванная к жизни стремлением к экуменическому диалогу и активизацией на территории СССР протестантской миссии, теория Т. Маннермаа опиралась на постулат Лютера о действительном присутствии Христа в самой вере. Развитая учеником Маннермаа А. Раунио идея совершения в конечном счете самим Христом добрых дел людей [Raunio 2001, 343–372] и продолженное другим его учеником С. Пеура глубокое исследование концепции теозиса в трудах Лютера [Peura 1994] сделали возможным дальнейшее сближение церквей в сотериоло-гических православно-лютеранских дискуссиях. В частности, С. Пеура было наглядно продемонстрировано, что, несмотря на практическое отсутствие терминов, обозначающих обо-жение (всего порядка 30 во всем корпусе сочинений Лютера), идея теозиса более чем органична для Реформатора [Керккеинен 2007, 97–98]. Тем не менее следует уяснить особенности лютеровского понимания обожения, чтобы выделить его основные черты, определившие в дальнейшем характер лютеранской догматики, и избежать неоправданных уступок всепоглощающему экуменизму.
М. Лютера, зачастую использовавшего теологическую терминологию весьма произвольно, с трудом можно однозначно классифицировать как сторонника двух- или трехчастного понимания природы человека. Разделение на тело и душу или на тело, душу и дух, как видно, представлялись ему либо не слишком значимыми, либо богословски адиафори-ческими. Споры об антропологическом функционале духа, души, разума и тела не выходи- ли в представлениях Лютера за пределы борьбы теологуменов, и он мог свободно отождествлять душу, дух и разум, а иногда, понимая человека как целостное живое существо, объединять их с телом, если речь не шла о специфически телесных надобностях. Но огромное значение в свете учения о спасении он придавал качественному разделению на «плоть» и «дух». Все душевные и духовные силы человека могут быть «плотью», если речь идет о ветхом человеке, и «духом», если человек обновлен Святым Духом [Luther 1955, 303]. Всякий человек есть «плоть», ибо «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Эккл. 7:20), и, как плоть, «хочет быть богом и не хочет, чтобы Бог был Богом» [Лютер 2013b, 378], в отличие от духа, который «верой держится вещей непостижимых» [Luther 1955, 309] и называет Бога своим Господом и Спасителем. Лютер не питал иллюзий – человек, несущий бремя первородного греха, есть «плоть». Тем не менее Реформатор исполнен богословского пафоса: «Одно и то же в теологии истинно, в философии ложно, и наоборот... Бог есть человек. В философии ложно, что Бог есть человек... поскольку человек – сущность, но в теологии он Бог – во Христе» [Luther 1976а, 250–253]. Таким образом, искать фундамент онтологии теозиса у Лютера необходимо в его христоцентрической догматике, и это первая из особенностей учения Реформатора об обо-жении. История теологии еще со святоотеческих времен знает немало заблуждений и лжеучений, к которым приводили попытки рационально объяснить суть боговоплощения. Но и сегодня, когда богословы и исследователи видят в религии прежде всего ее этическую значимость, в Библии – литературный источник, а во Христе – борца, героя, но все же человека, вновь вспомнить подлинную, не усеченную и не секуляризированную христологию Лютера означает увидеть ориентир, давший Реформации ее духовный смысл и цель. Человек становится Богом только во Христе. Как именно это происходит в тайне боговоп-лощения, непостижимо. Адекватным средством выражения этой непостижимости стало апофатическое богословие, что отражено в формуле IV Вселенского собора, но, несмотря на то что верующий исповедует факт воп- лощения, по мнению Лютера, более понятным он от этого не становится. Более того, даже телесность Христа представляет собой сложную для разума задачу. Физическая онтология Христова тела должна пониматься трояко: обычное физическое тело, как у всякого человека; духовное тело, то, которое присутствует, например, в таинстве евхаристии, что выражается словами установления «Сие есть Тело Моё»; наконец, тело небесное или божественное. О необходимости признать существование божественного тела свидетельствует догматически установленная нераздельность двух природ во Христе, то есть необходимость присутствия телесной природы повсюду, где присутствует божественная. При этом количественный или качественный анализ соотношения природ не имеет смысла: «мы не говорим о Боге как о протяженном, длинном, широком, тонком, высоком, глубоком. Он – сверхприродное, непостижимое бытие, обитающее в каждом мельчайшем семени, целостное и совершенное, и в то же самое время находящееся во всех, над всеми и по ту сторону всех сотворенных вещей. ...тело гораздо шире, чем Божество; оно может вместить много тысяч Божеств. С другой стороны, оно слишком узко, чтобы содержать даже одно Божество Бог... есть невыразимое бытие, Он над и за всем, что можно описать или вообразить» [Luther 1976b, 228].
Человек до грехопадения обладал настолько высоким онтологическим статусом в иерархии бытия, что превосходил ангелов, как красочно описывал Лютер, говоря о гневе Люцифера на Адама. Дьявол ошибался, ибо не предполагал, что Бог выбрал именно человеческую природу для участия в великой тайне и, таким образом, ее, жалкую и униженную, по Его воле предназначил ко спасению [Luther 1912 web, 178]. Боговоплощение – залог спасения человечества в том числе и во плоти, так как подлинные душевные и физические муки Христа, а не кажущееся пребывание Его на кресте, как утверждают, например, доке-тисты, дали всей твари надежду, которая, согласно современной интерпретации мистического учения Лютера, «заключает в себя как надеемое (das Erhoffte), так и движимое им упование (Hoffen)» [Мольтман 2011, 423]. Сам Лютер высказывался категорично и прямо о присутствии Христа в вере [Керккеинен 2007, 98–99], и не видеть его приверженности мистике единения божественного и человеческого невозможно. Единство двух природ во Христе, оставаясь великой тайной, открывается бесконечной благодатью, ибо предполагает реальность мистического союза Бога и человека, и шире – всего искупленного творения [Luther 1976b, 229]. В учении Лютера о теози-се, как мы видим, второй важный аспект, который необходимо подчеркнуть, это его связь с сотериологией. То есть теозис не является целью жизни христианина, если можно так выразиться, не является даже признаком спасения – он с необходимостью происходит в процессе спасения.
Раскрывая тему онтологии веры, проливающую свет на понимание обожения у Лютера, обратимся к случившемуся в 1520-х гг. догматическому спору об оправдании. Учение Лютера выражается в известных формулировках о «вменении» (imputatio) в суде Божьем чужой, то есть Христовой, праведности (aliena justitia) грешному человеку, таким образом, подчеркивается отсутствие заслуг и достоинств со стороны человека, что и формулируется нарочито сухим юридическим языком [Хегглунд 1999, 144]. Пассивность и даже паралич собственной воли человека подчеркивает тот факт, что оправдание всегда, несмотря на то что приводит к некоторым изменениям для человека, «кто помещен в его контекст», остается неким внешним актом, сродни судебному решению, «чисто объективным изменением вне человека» [Хегглунд 1999, 145]. При этом, согласно Лютеру, воля человека не ничто, подобно тому, как рассуждал о зле Августин Гиппонский, а, наоборот, противящаяся Богу сила, которая должна быть уничтожена, без чего в принципе невозможно оправдание. Подобно немецким мистикам Лютер говорит об аннигиляции воли, которая совершается претерпеванием страданий. Уничтожая в человеке злую волю, Бог действует противоположно существующему положению дел, sub contrario specie, а разрушив нашу личность, Бог может действовать согласно Своей воле для нас [Grane 1978, 104]. В то же время один из ближайших соратников Лютера Андреас Озиандер предложил свое понимание учения о спасении. В «Нюрн- бергской записке» он утверждает, что божественная природа Иисуса Христа как праведность Бога пребывает внутри нас, и, соединяясь с Богом через веру, человек как бы становится этим «новым духом» [Курбатов 2022, 94–95]. Тогда человек становится сыном Божьим, как и Христос, и именно потому, что праведность Христа пребывает в верующем (justitia essentialis), а не находится вне его, как говорил Лютер, называя такую внешнюю праведность «вмененной». С Озиандеровым вариантом понимания оправдания впоследствии не согласились лютеранские богословы, и Озиандер со сторонниками был вынужден скрываться, поскольку на протяжении всей жизни придерживался своих взглядов. Именно понимание Озиандера ближе к православному «энергийному» пониманию обожения, именно его сравнивают с паламитским учением и подчеркивают роль Озиандера в истории развития православно-лютеранского экуменического диалога [Friesen 2017, 290]. Анализируя расхождение во взглядах Лютера и Озиандера на примере данного спора, нужно отметить, что принципиально различно их понимание веры. Озиандер не наделяет веру онтологическим статусом, тогда как для Лютера она не психологическое состояние, не некая убежденность, не процесс движения человека к Богу, даже не особенный смысл бытия – жизнь в вере дарована человеку Богом, но при этом она не является его собственным бытием. И здесь обнаруживается третья особенность представлений Лютера о теозисе – они основаны на учении об онтологии веры, за которым следует и понимание веры как онтологического основания обожения. Онтология веры подразумевает, что все, чем человек является, есть его отношения с Богом, то есть определено его верой либо неверием, почему онтология веры и должна быть понята как «ontologia relationis», а не субстанциальная онтология [Ebeling 1979, 222]. Вера превосходит бытие человека, и вне контекста оправдания верой нет смысла говорить об обо-жении. Оправдание и обожение, хотя в нас присутствуют, всегда относятся ко Христу, и хотя в нас совершаются, всегда остаются вне нас, но во Христе. Не сущностную, а сотериоло-гическую природу обожения стремился подчеркнуть Лютер, когда говорил, что «истин- ная вера является твердым упованием и твердым согласием в сердце. Она ухватывается за Христа так, что Христос является Тем, Кто присутствует, так сказать, в самой вере. Таким образом, вера... существует сама по себе, как... упование на то, чего мы не видим, на Христа, Который реально присутствует, особенно когда Он невидим» [Luther 1911 web, 228–229].
Обожение – это единение с Христом только через веру, подлинное unio mystica , при этом активная роль в этом единении принадлежит Христу. «То, как Он присутствует, – выше нашего понимания, ибо вокруг нас – тьма... везде, где присутствует вера в сердце, присутствует и Христос – в этой самой тьме и вере... Христос формирует веру и приводит в движение ее... Он является формой веры» [Luther 1911 web, 229]. Схоластический термин призван подчеркнуть не только причинность, действующую и целевую, но и онтологию процесса – новое бытие внечелове-ческой природы становится спасением от греха и смерти как для чувственной, так и для разумной души, то есть для тела и духа [Grane 1978, 105]. Но спасение – потребность и прерогатива не только людей, но и всего универсума, который обретает спасение также через веру. Очевидно, что вера при этом должна быть понята именно онтологически, так как для неодушевленного, но лежащего во грехе мира – «проклята земля за тебя» (Быт. 3:17) – спасение возможно лишь обретением нового основания [Ozment 1972, 107]. Слова апостола Павла о твари, с надеждою ожидающей, Лютер комментирует как понимание мироустройства вообще [Лютер 1996, 81], подчеркивая: «Правильно человеку следует называть работу Христа совершающей работой и наши дела совершенной работой... Любовь Бога не находит, но творит то, что приятно для нее» [Лютер 2013а, 386].
Таким образом, упрекнуть Лютера в забвении мистической стороны христианского учения нельзя, напротив, следует говорить о превалировании ее. Понятие «акт веры» подразумевает обожение, как «форма веры» подразумевает Христа, учение об онтологии веры только кажется решительным разрывом с мистикой обожения святоотеческой традиции. Можно даже усомниться в «истинности» спа- сения, оправдания и обожения, если, согласно Лютеру, они сущностно не принадлежат человеку. Также с позиции экуменического диалога православных и лютеран со стороны православных богословов с бóльшим основанием может быть высказан упрек относительно излишней индивидуализации духовного опыта и невнимания к мистике Церкви, о чем упоминал еще Г. Флоровский [Флоровский 2006, 93]. Тем не менее идея о неполноте тварного бытия принадлежит далеко не Лютеру. Здесь явно слышна перекличка с неоплатонической философией поздней Античности, раннего Средневековья и святоотеческой спекулятивной мистики – и Лютер логически развивает идеи о неполноте, «неистинности» наличного бытия человека. Только Христос пример бытия истинного, так как «искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15), и Его непостижимо соединенная с божественностью человеческая природа, принесенная в жертву на кресте для Лютера является нерушимым заветом подлинности нашего спасения и истинности нашей веры.