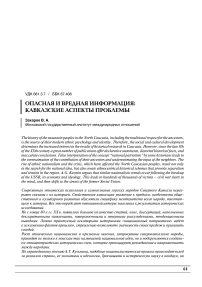Опасная и вредная информация: кавказские аспекты проблемы
Автор: Захаров В.А.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Материалы пленарного заседания XII международной научно-практической конференции "Наука - сервису"
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
История горных народов Северного Кавказа, в том числе традиционное уважение к предкам, является источником их современной этнической психологии и самобытности. Поэтому социальное и культурное развитие определяет повышенный интерес к результатам исторических исследований на Кавказе. Однако с конца 80-х годов XX века в большом количестве публикаций предлагаются декларативные заявления, искаженные исторические факты и неточные выводы. Ложная интерпретация понятия «национальный патриотизм» некоторыми историками приводит к переоценке вклада их предков и недооценке вклада соседей. Возникновение этнического национализма и кризис, которые затронули северокавказские народы, приводят не только к поиску национальной идеи, но и к созданию этноцентрических исторических схем, которые провоцируют сепаратизм и напряженность в регионе. А.Г.Кузьмин утверждает, что подобные националистические тенденции происходят после распада СССР, его экономики и идеологии. Это приводит к сотням тысяч жертв - гражданская война начинается в сознании, а затем переходит на улицы бывшего Советского Союза.
Короткий адрес: https://sciup.org/140210426
IDR: 140210426
Текст научной статьи Опасная и вредная информация: кавказские аспекты проблемы
По справедливому мнению А.Г. Кузьмина, подобные националистические происки происходят вслед за развалом страны, ее экономики и идеологии, бросившими и историческую науку в нокдаун, на страницы печати хлынул поток дилетантских фантазий, часто весьма ядовитого содержания. Национализм на окраинах бывшего Советского Союза питается такого рода фантазиями, и это приводит к сотням тысяч жертв. Гражданская война всегда начинается в умах, а затем перекидывается на улицы.
Современная этническая психология и самосознание горских народов Северного Кавказа неразрывно связаны с их историей. Свойственное кавказцам уважение к предкам, особенности общественного и культурного развития обусловили специфику менталитета всего народа, тяготеющего к истории. все это определяет повышенный интерес населения к результатам исторических исследований. Как справедливо отмечают в. А. Кузнецов и И. М. Чеченов, история без преувеличения «стала инструментом этнокультурной самоидентификации народов, она в немалой степени формирует общественное сознание». Особенно это касается праистории народов, которая завоевала «серьезные позиции, освоив информационное пространство… пустив корни во всех республиках»1. Этим определяется высокая нравственная и гражданская ответственность всех историков, исследующих данные проблемы.
К большому сожалению, практика показывает, что в последнее время появилось большое количество статей, книг, диссертаций, наполненных декларативными заявлениями, поверхностными рассуждениями, тенденциозными выводами. Ложно трактуемый некоторыми историками «национальный патриотизм» ведет к элементарному искажению фактов прошлого, стремлению возвеличить значимость своих предков и принизить соседей. Такой подход «не позволяет» писать правду, которая не укладывается в стереотипы представлений большинства народов каждой северокавказской республики о своей прошлой и нынешней истории.
в последнее десятилетие стал очевиден «обратный негативный процесс реанимации и наступления сил, враждебных подлинной нау-ке»2. Появившиеся «научные» исследования с настоящей наукой ничего общего не имеют, эти произведения псевдонауки отличаются сенсационностью, «решительной перестрой- кой науки и ее практических положений». Как ни прискорбно, в рядах создателей и защитников исторических мифов, отнюдь не безвредных для массового сознания, можно встретить и представителей научной интеллигенции. Среди них немало дипломированных ученых и «новых академиков».
Со второй половины 80-х гг. прошлого века в СССР резко возрастает интерес к ранним этапам истории народов. История, особенно этническая история народа «приобрела огромную, можно сказать даже чрезмерную, актуальность». Но удовлетворить возросший спрос на историческую литературу оказалось невозможно, поэтому появилось огромное количество литературы, не отвечающей самым элементарным требованиям науки. Печатались поверхностные конъюнктурные работы, которые и исследованиями назвать нельзя, они наносили вред не только науке, но и обществу. Попытки во что бы то ни стало заполнить зияющие пробелы в истории коренных жителей Кавказа привели к огромным негативным последствиям. Мы стали современниками беспрецедентного отката общественного сознания к идеологии средневековья далеко не в лучших ее формах. Непрофессиональные «краеведы», новые политики, вольно или невольно проявляли склонность к сенсациям и «решительной перестройке науки». Их отказ от исследований советских ученых обществоведов отличался не только фанатичностью, но и недобросовестным обращением с источниками. Как тут не вспомнить слова французского ученого Марка Блока: «Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к истории лучше понятой».
Появление псевдоисторических сочинений происходило на фоне утверждений о потере Россией своей былой роли и значения как великой державы на Северном Кавказе и в Закавказье. Основания для подобной точки зрения были очевидны. Одновременно после развала СССР мы наблюдаем все больший интерес стран Запада и, в первую очередь США, ко всему кавказскому региону. Интерес этот связан не только с богатством разнообразных ископаемых ресурсов, в том числе и стратегических. «Заинтересованные лица» проявляли большое внимание к Кавказу в глобальном геополитическом аспекте. Однако анализ геополитической ситуации на Кавказе, конечно же, следует не с XX в. все нынешние события имеют богатое историческое прошлое.
Юго-восточная часть европейской России, где географически расположен Кавказ, является одним из тех регионов, прошлое которого насыщено ярчайшими историческими событиями. в середине I тысячелетия до н.э. эти места стали районом активной греческой колонизации. Затем на этой территории сменяют друг друга различные племенные объединения, включая славян (они появились на Кавказе во второй половине I тысячелетия н.э.). Многие великие державы стремились завладеть Северным Кавказом и Закавказьем из-за выгодного геополитического местоположения.
Почему это происходило? Каковы причины многочисленных трагических событий и военных конфликтов, не раз сотрясавших этот регион?
все эти вопросы поднимаются исторической наукой уже не одно столетие3. Для ответа на них необходим широкий ретроспективный взгляд. в первой половине XVI в. на юго-восточной окраине Московского государства шел процесс образования казачества, не имевшего тогда точного названия. Его разделение на донское, терское, гребенское, кубанское появилось значительно позже. По мнению в. в. Дегоева, в это время появляется так называемый силовой треугольник, включивший в себя три крупнейших государства: Московское (ставшее вскоре Россией), Иран и Турцию (с его сателлитом Крымским ханством). внутри этого треугольника «на протяжении нескольких веков решались судьбы кавказских народов»4.
военно-политическое положение молодого Российского государства, его борьба с татарскими ханствами и Большой Ордой определяли необходимость все более пристального внимания к обороне южных и юго-восточных границ государства. Началось строительство крепостей. Организация обороны этих земель вышла на новый уровень в 1571 г., когда князем М. И. воротынским был создан устав сторожевой и станичной службы5.
города, расположенные на пограничных линиях, превратились в опорные пункты защиты. Между ними находилось большое количество острогов, острожков и сторожевых башен, лесных засек и завалов, которые составляли неподвижную линию обороны. Перед ней располагалась так называемая подвижная оборонительная линия, состоявшая из мобильных отрядов, представлявших собой наблюдательные посты («сторожи») и разъезды («станицы»). О любой возможной опасности отряды сообщали в ближайший населенный пункт.
Для несения службы в городах-крепостях и на сторожевых постах широко привлекали «вольных людей», множество которых появлялось на окраинах Московского государства. За свою службу они получали жалованье и землю в пожизненное пользование, а себя именовали городовыми и станичными казаками. Чаще всего это были беглые, многие из которых уходили еще дальше: на Дон, Терек и Кубань. Условия проживания в тех местах были весьма суровыми, сопряженными с постоянной угрозой от крымчаков и татар, поэтому оружие приходилось держать все время наготове. Так появились на Северном Кавказе, в верховьях Терека, на Сунже организованные казаки, ставшие больше известными под именем гребенских казаков (т.е. располагавшихся «за гребнем», за горами), жившие среди чеченцев6.
Со второй половины XVI в., времени появления первых казачьих городков, русское правительство активно использует казаков для обеспечения внешнеполитических действий. Казачество превращается в авангард, с помощью которого происходит освоение русскими Кавказа.
Однако упрочения своего влияния и даже владычества на Кавказе добивались в то же время и две соперничающие державы — Иран и Турция — не только с помощью введения войск и захвата отдельных районов Кавказа, но и путем религиозной экспансии7. Эти государства исповедовали одну мусульманскую веру, но в двух не признающих друг друга ее течениях — суннитов и шиитов. Начиная с XV в. они усиленно вытесняют христианство в его греческом варианте, которое до этого исповедовали многие горцы8.
в то же время на Кавказе Российское государство столкнулось с огромным количеством никому не подчинявшихся, разрозненных и постоянно враждовавших между собой патриархально-родовых обществ. Они принадлежали к разным языковым и этническим группам, исповедовали разные религии и находились на различных стадиях социальной организации.
в течение почти двух веков между суннитской Турцией и шиитским Ираном с небольшими перерывами шли войны за овладение Северным Кавказом, стратегически важным регионом. «Игра на этих противоречиях оставалась главным оружием России, пока она была слабой в военном и экономическом отношении. Таким путем она поддерживала равновесие сил на Кавказе, способствовала истощению своих конкурентов и готовила почву для собственного, более энергичного вмеша- тельства в дела региона», —замечает в. в. Де-гоев9.
По Амасийскому мирному договору 1555 г. произошел раздел Закавказья между Ираном и Турцией. Лишь Персидский поход Петра I на короткое время изменил ситуацию, но уже к 1735 г. Россия уступила Ирану Дагестан и Азербайджан. Однако в течение всего предыдущего периода между Россией и закавказскими народами поддерживались постоянные дипломатические контакты. Историография этой проблемы обширна10.
в XVIII веке на Кавказ устремилось большое количество разнообразных лиц: миссионеров, купцов, авантюристов, были среди них и ученые-исследователи, и просто грамотные путешественники, оставившие интереснейшие записки. Несмотря на фрагментарные публикации в нашей стране этих воспомина-ний11, многие из них пока не переведены.
Победа над Турцией в войне 1768–1774 гг., получение ряда территорий на Северном Кавказе и правобережья Кубани упрочило позиции России, сблизило ее с правителем восточной грузии — Картли-Кахетии царем Ираклием II. Подписание в начале XIX в. трактата в георгиевске и присоединение восточной грузии еще больше укрепило положение России, однако привело к обострению отношений с Турцией. Сферой политического давления Турции на Кавказ стали все мусульманские области — Чечня, Дагестан и особенно Черкессия, в Азербайджане — его суннитская часть. в грузии это были южные и юго-западные районы: Месхет-Джавахети и Аджария.
Большим вкладом в дело «усмирения» Кавказа генералом А. П. Ермоловым ознаменовались 20-е годы XIX в. А. П. Ермолов — крупнейший государственный деятель, герой войны 1812 года, ставший в 1816 г. командиром Отдельного грузинского (Кавказского) корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии, много сил и внимания посвятил преобразованию Кавказа12. возникший в то время интерес к «ермоловскому» управлению Кавказом нельзя назвать случайным. До сих пор в русской и зарубежной историографии нет однозначного отношения к Ермолову. Ненависть к нему со стороны коренного населения Северного Кавказа была настолько велика, что в «перестроечное» время, в 1989 г., решением Чечено-Ингушского обкома КПСС был уничтожен памятник Ермолову в грозном.
Интерес к Ермолову вызван в первую очередь тем, что практически все историки связывают начало так называемой Кавказской войны с его деятельностью13. Справедливость подобной точки зрения была отмечена еще в 60-е годы XIX в. известным историком Кавказа Р.А. Фадеевым, который еще до окончания войны заметил: «Наступательная война против горцев началась действительно только с назначением главноуправляющим Кавказским краем генерала Ермолова в 1816 году»14.
Подчеркнем, оценка деятельности этого выдающегося государственного деятеля до сих пор неоднозначна, но ее анализ, проведенный Ю. Ю. Клычниковым, довольно объективен. «При Ермолове, — пишет автор, — был разработан и стал воплощаться в жизнь план по фактическому присоединению к России Северного Кавказа, но довести его до конца пришлось уже другим. Чуда и мгновенного успеха не получилось. Россия завязла в войне на Кавказе, но винить в этом Ермолова, на наш взгляд, неправомочно, т.к. такой ход событий был исторически предопределен. впрочем, в любом случае следует согласиться с тем, что деятельность А. П. Ермолова имела положительные (несмотря на имевшие место военные столкновения, принудительные переселения и т.п.) последствия для развития народов, населяющих Северный Кавказ»15.
«Ермоловская эпоха» — сложное явление не только Кавказской войны, но и вообще Кавказского края. Памятниками этой эпохи стали географические названия, мемуарная и художественная литература, устные рассказы и предания, разносившиеся «по всей Руси великой».
Однако самое яркое выражение ее — это сподвижники А. П. Ермолова, его бывшие прапорщики и штабс-капитаны, дослужившиеся до генеральских чинов и стяжавшие громкую боевую славу на Кавказе и за его пределами. вот лишь некоторые имена: граф Н. И. Евдокимов, князь в. О. Бебутов, князь М. З. Аргутинский-Долгоруков, Н. Н. Муравьев и многие др.
Однако в основе Кавказской войны, кроме прочих причин, существовал, как отметил в. в. Дегоев, и такой фактор, как «межцивилизационный конфликт, который в формаци-онно более развитом Закавказье был выражен гораздо слабее и поэтому не привел к столь тяжелым последствиям»16, как это было на Северном Кавказе.
Начавшиеся на Северном Кавказе военные действия со стороны коренного населения, которыми руководили сменявшие друг друга три имама, носили социальный и религиозный характер. Первоначально горцы выступали против большей части своих владетельных князей, которые вели по отношению к собственному народу грабительскую политику и находились в постоянной зависимости от Ирана и Турции. На этом факторе в конечном итоге умело сыграл имам Шамиль. Наибольшего успеха во втором этапе Кавказской войны горцы достигли именно при Шамиле17.
в 30-е гг. XIX в. одним из главных факторов в кавказском вопросе становятся англо-русские отношения. Кавказские предгорья Англия считала той границей, где Россия должна быть остановлена в своем продвижении на юг. Англичане постоянно посылали в горы своих агентов, горцы неоднократно информировали российские военные власти об этих фактах, о чем сохранилось немало документальных свидетельств18.
Благодаря публикации в. в. Дегоевым новых источников стали известными многие провокационные для России действия со стороны Лондона. Так, англичане постоянно оказывали помощь воюющим против России горцам — вооружением, боеприпасами, посылкой эмиссаров и агентов. Кроме этого, проводилась большая информационная подготовка для создания на Западе соответствующего общественного мнения19.
К сожалению, подобная политика взята Западом на вооружение и сегодня. все мы являемся свидетелями яростной информационной войны, в которой используются самые грязные методы, не проверяют факты и не жалеют даже представителей собственных государств, оказавшихся заложниками или зверски убитыми чеченскими сепаратистами.
К 30-х гг. XIX в. наблюдается кардинальное изменение геополитической ситуации на Кавказе. Устройство Россией Черноморской береговой линии, давшее вначале частичный, а затем и полный контроль над Черноморским побережьем от Керчи до границы с Турцией в грузии, нарушает существовавшую связь между Турцией, Ираном и Кавказом, но оказывается больше буферной зоной. «Получив новую линию южной границы (с небольшими изменениями она сохранится до 1991 г.), Россия приобрела ключевой геостратегический плацдарм для создания непосредственной угрозы Анатолии и Западному Ирану, то есть подступам к Персидскому заливу и Индии»20. владение Кавказом решило для России еще один стратегически важный вопрос. Она ста- ла полновластной хозяйкой на Каспийском море и в восточной части Черного моря. Это повлекло за собой дальнейшее продвижение России, теперь уже в Среднюю Азию.
Столь активное расширение границ не устраивало Лондон. Спецслужбы Англии создают документ под названием «Декларация независимости Черкессии». Он был опубликован в западной печати в 1836 г. и адресован европейским державам. в. в. Дегоев убедительно доказал, что сами черкесы к этой фальшивке никакого отношения не имели. Тем не менее ее текст был недавно вновь опубликован как оригинальный (подлинный) документ зарубежным адыгским историком Мухадином Из-зет Кандуром в 1962 г. в его докторской диссертации «Мюридизм. История Кавказских войн», защищенной в Клермонтском университетском центре (Штат Калифорния, США), и в 1996 г. переиздан в Нальчике21.
Активность Англии продолжалась до Парижского конгресса 1856 г., когда на международном уровне окончательно была подтверждена принадлежность Кавказа России. Англия еще не раз пыталась вернуть себе былое влияние. Так было во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда прокатились народные волнения в Дагестане и Чечне. Однако все попытки устроить буферную зону между владениями России в Средней Азии и Англии в Индии окончились безрезультатно, а осложнения внутренней ситуации в Афганистане «побудили Англию искать согласия на востоке на основе договоренностей о разделе сфер влияния, на что Петербург отвечал взаимнос-тью»22.
* * *
К концу ХХ в. проблемы Северного Кавказа вновь обострились, их справедливо называют узлом множества противоречий, которые сегодня стали решаться особенно ожесточенно. вылились они в форме политического противостояния религиозных и национальных социумов, видимо, недаром этот регион стали называть «солнечным сплетением Евразии».
О причинах, по которым Северный Кавказ стал болевой точкой России и в XIX, и в ХХ в., о неэффективности СНг, гипотетической дезинтеграции России к настоящему времени написано множество работ. Тем не менее ни одна из причин реализации подобных сценариев до сих пор не стала предметом серьезного анализа, поскольку нет пока, к сожалению, основательного научного осмысления этнополитической ситуации на Кавказе, отсутствуют аргументированные, не зажатые в тиски идеологических рамок прогнозы.
возможность отойти от идеологических клише историку поможет интегральный взгляд. Концепции социологов и социальных психологов с точки зрения строения социума, его целей и задач на фоне развития исторического процесса — вот путь, который поможет раскрыть истинные причины конфликта в данном регионе. Сегодня на первый план выходит урегулирование вопросов терминологии и правовых норм в решении задачи разделения территориального суверенитета от других форм самоопределения нации. Необходимо разрешить два блока противоречий: 1) между понятиями: гражданское общество, территориальное или национально-этническое; 2) выделение принципов самоопределения как отделения, выделения и неприкосновенности существующих обществ.
Термин «самоопределение» возник еще во времена великой французской революции. После Первой мировой войны Лига наций его понимала как право всех групп, считающих себя нацией на отделение, подразумевая процесс начавшейся деколонизации23. Но процесс дробления крупных государств в 20– 30-х гг. ХХ в. и после второй мировой положили в основу создания нового международного органа — ООН — уже другой принцип, хотя четко сформулировать с правовой точки зрения право нации на самоопределение до сих пор не удалось. Резолюция генеральной ассамблеи ООН 26 (ХХVI) от 24 октября 1970 г., а затем и в пактах о правах человека, уставе ООН это право чаще всего трактуется в рамках прав уже существующих государственных образований.
в данном аспекте определение нации, данное Сталиным в его работе «Марксизм и национальный вопрос», в различных вариантах сохранено практически во всех энциклопедиях. На наш взгляд, формирование этносов до стадии обладания пятью признаков нации происходит вокруг наиболее обобщающих, которыми являются:
-
• формирование территории и форм национальной государственности (в том числе, экономическая деятельность на данной территории);
-
• особенности поведения (культура, психика и язык).
Поэтому сегодня вопрос о терминологии касается прежде всего области правовых норм, которые должны четко разграничить суверенитет территориальный и другие формы самоопределения нации.
От этого зависит смысл такой формы государства, как федерация. Надо сказать, что до Октябрьской революции не только большевики, но и многие сколько-нибудь видные ученые и политические деятели были совершенно уверены в невозможности разрешить национальный вопрос при помощи федеративного государственного устройства страны. Один из виднейших русских обществоведов начала ХХ в. А. С. Ященко прямо утверждал, что никакая федерация не сможет решить национальный вопрос24.
Такой же позиции придерживался один из лидеров кадетской партии и министр временного правительства Керенского Ф. Ф. Кокошкин. «Я считаю, — писал он, — что построение российской федерации, основанной на начале национального разделения, представляет задачу государственного строительства, практически неосуществимую». По его мнению, было бы глубочайшей ошибкой создать федерацию на основе национального принципа — «это значит практически, как бы ни обстояло дело формально, разбить Россию на куски, а потом попробовать эти куски склеивать в федерацию»25.
Теоретическое представление о праве наций на самоопределение стало претворяться в жизнь только тогда, когда большевики при- знали целесообразность создания национальной государственности в России для того, чтобы «закрепить произошедший перелом, расширить политическую армию революции и углубить коренное преобразование всех сфер общественной жизни народов»26.
По мнению английского историка Э. Карра, «в пользу большевистской национальной политики говорило то обстоятельство, что буржуазная теория самоопределения наций к 1919 г. зашла в тупик, из которого не было выхода; что при капиталистическом строе, в той его форме, какую он принял с разделением труда между передовыми индустриальными народами и отсталыми или колониальными народами, подлинное равенство между нациями стало недостижимым и что идея воссоединения при социалистическом строе действительно, а не только формально равных наций быта смелой творческой попыткой вырваться из тупика»27.
в отечественной и зарубежной историографии возникновение понятия «национальная государственность», а также вызвавшие его к жизни в ХХ в. причины получили разные определения и толкования. Так, по образному выражению Э. Карра, «национальная государственность явилась непрошеным даром русской революции», источник происхождения которой следует искать в тактических соображениях советской власти28.
Сегодня, уже зная результат социалистического эксперимента, необходимо признать, что в многонациональной стране национально-государственные образования в виде союзных и автономных республик выступали носителями государственного суверенитета лишь формально. Полный государственный суверенитет субъектов единого государства вообще в реальности, видимо, невозможен и может быть принят только теоретически, поскольку при вступлении в федерацию любой ее субъект обязан передать часть своих суверенных прав федеральным органам власти.
Такой постановке вопроса отвечает и процесс противостояния национальных социу- мов. Именно национальные проблемы, а следовательно, и национальный вопрос в мире возник во время формирования индустриального общества. Сегодня актуальность национального вопроса на Северном Кавказе также связывают с характером протекания процессов урбанизации, которые являются важнейшими при формировании культурных национальных центров29.
в нашей стране противоречия такого рода выразились в декларативном провозглашении территориального самоопределения в самостоятельные государства и желании тех, кто еще не получил такого рода права, в бесконечном продолжении дробления территории.
Желающих потребовать территории может быть так много, сколько групп будет выделять себя по языковым, культурным, экономическим и политическим признакам в нацию. Так, например, на Северном Кавказе в Ботлихском и Цуманлинском районах Северо-Западного Дагестана почти в каждых двух-трех селах живут самостоятельные народы. Так, только представители андийской группы — андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы и др. — отличаются друг от друга своим языком и обычаями30. При современном законодательстве они вполне могут потребовать собственной государственности на основе доказательства длительного проживания на данной территории.
Язык мог бы стать объединяющим началом, но совершенно очевидно не единственным и не определяющим, особенно применительно к данному региону. в то же время он всегда используется как иллюстрация более глубоких культурных и политико-экономических процессов. Иначе между народами одной языковой группы не было столько глубоких противоречий, какие наблюдаются на Северном Кавказе. Некоторую искусственность языковой проблемы можно проиллюстрировать следующим примером. Объективный процесс развития двуязычия, приобщение к более широким сферам культуры, образования и экономики посредством русского языка в СССР некоторыми деятелями был назван «русификаторской» политикой.
До периода ослабления центральной власти в России этот вопрос не был определяющим фактором в изменении национального самосознания нерусского населения России, ибо неизбежные экономические, личные и другие контакты населения заставляли и до сих пор заставляют людей осваивать язык межнационального общения. Английский язык, который по тем же причинам является языком межнационального общения, для Российской Федерации не приемлем по причине большой территориальной дистанции. Известно, что посредническая функция в Дагестане в прошлом, в силу исторических условий, падала на ряд восточных языков, особенно на арабский, который на протяжении веков служил здесь языком религии и общественной мысли, художественного творчества, делопроизводства, частной переписки и т.п. Однако история распорядилась таким образом, что не арабскому, не тюркскому и не персидскому, несмотря на их многовековые притязания на такую роль, а именно русскому языку было суждено стать первым в истории Дагестана всеобщим и признанным языком межнационального общения.
Жесткое использование новым региональным руководством своего родного языка связано с проведением идей национального разделения. Хотя в тех регионах, где сильны исторические, культурные и религиозные традиции, острой необходимости в чрезвычайных мерах по сохранению национального языка не было. Уже давно в таких регионах существуют национальные школы.
в Дагестане с его многоязычием эта проблема была особенно актуальна. Здесь не было официального государственного языка. Зато в Конституции республики было зафиксировано равноправие всех ее 11 литературных языков: аварского, даргинского, лезгинского, лакского, табасаранского, татского, ногайского, азербайджанского, чеченского и русского, на которых основывались и развивались национальная школа, научная, учебная и художественная литература, театр, средства массовой информации, книгопечатание, судо- производство и т.д.31 Иными словами, все, что составляет основной культурный комплекс и культурный фонд современной цивилизации.
С другой стороны, современная этническая структура Дагестана характеризуется тем, что в республике проживают более 80 этносов. Четвертая часть населения края — это русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, чеченцы, татары. Около двух третей составляет национально-смешанная среда, причем 43% проживает в городах, где ни одна из национальностей не достигает четвертой части. Такая структура расселения народов в Дагестане стимулирует высокую интенсивность этнических процессов. Достаточно сказать, например, что каждая десятая семья в сельской местности и каждый четвертый брак, заключаемый в городах, — национально-смешанные. Каждый шестой новый гражданин рождается в семье, где родители имеют различную этническую принадлежность. Так что сам по себе феномен двуязычия в условиях дагестанского многоязычия и здешней этнокультурной пестроты — исторически сложившаяся объективная и неизбежная потребность. Более того, Дагестан предстает как живой и реальный ареал широко распространенного трехязычия. Оно обусловлено наличием и функционированием здесь огромного множества языков бесписьменных, литературных и русского32.
Тревога же представителей многих национальных культур в такой, в высшей степени деликатной сфере, как взаимоотношения языков, а следовательно, народов не была лишена оснований. Сужение сферы функционирования родных языков, безусловно, сопряжено с невосполнимыми издержками духовного развития народов. возможно, именно как своеобразную реакцию на эту обстановку и следует воспринимать проявившуюся в ряде республик бывшего СССР линию на освящение родного языка как государственного.
Реальное положение дел вряд ли дает основание для тревоги некоторых авторов о «фактическом отсутствии равенства» русского языка и русского населения в национальных республиках. в то же время состояние языковой ситуации на Северном Кавказе, в частности в Дагестане, давно уже нельзя было признать удовлетворительным. в недавнем прошлом только 70,1% городского населения Дагестана владели родными языками в полной мере (умение свободно говорить, читать и писать на нем), хотя доля дагестанского населения, считавшего свой язык родным, превышала 95%.
в дагестанской городской семье лишь половина супругов говорила между собой преимущественно на родных языках, четвертая часть пользовалась как родным, так и русским, а другая четверть общалась в семье либо только на русском, либо чаще на русском33.
Для установки межкультурных границ требует уточнения термин «национальная культура» — основа выделения территории для группы — носителя особой культуры.
Норвежский ученый Ф. Барт акцентировал внимание на том, что при анализе этнокультуры нужно рассматривать элементы не традиционные, а отличительные. в этом аспекте особенно большое значение придается элите. С. Хантингтон34 так же считает, что именно отличительные черты культуры формируют ее и устанавливают геополитические культурные границы в результате войн и конфликтов. (Именно поэтому картина будущего им рисуется как война сначала наций, затем больших культур — цивилизаций).
в отношении чеченского кризиса культурная дистанция была одним из направлений в исследовательском проекте Л. М. Дро-бижевой и ее коллег из Северо-Кавказских горских республик и США «Национальное самосознание, национализм, регулирование конфликтов» на основе опросов населения в 1994—1996 гг.35 Они доказали, что политические и экономические элементы играют далеко не главную роль в формировании отчужденности наций, но становятся лишь формами ее проявления. Например, русский язык — язык делопроизводства, не был социально разграничивающим фактором для нерусских народностей до тех пор, пока в республиках не был изменен принцип государственного языка: вместо одного — другой или два. возможность занять государственную должность при условии знания языка титульной нации сделали упор на дистанцию и в профессиональной деятельности. Идеологические ценности и нормы, таким образом, способствовали удлинению дистанции между различными народами многонациональных республик по отношению к общественному устройству и связям в целом: плюрализм или традиционализм, а также по отношению к групповым ценностям: суверенитет, этноцентризм или релятивизм, к таким символам, как язык, оценка исторического прошлого, ориентации на будущее.
Результаты опросов группы Л. М. Дро-бижевой и г. У. Солдатовой в 1994–1996 гг. в Северной Осетии установили, что в ориентациях на ценности макроуровня дистанции между респондентами титульной нации и русскими были небольшими. Но по групповым ценностям общины различались. Ценности символические у титульных народов были самыми высокими, а у русских выше ценилось гражданское общество. У русских г. У. Солдатова установила «устремленность в будущее», а у титульных национальностей — к возрождению национальных ценностей. Таким образом, проявились две основные установки: на модернизацию или на традиционализм.
в традиции ритуал и символ играют первостепенную роль. Поэтому при формировании этноцентризма религиозность — важный носитель ритуала и символизма — играет первостепенную роль. Е. Шилз доказал, что традиции не складываются сами по себе, их создают и изменяют люди, целенаправленно поддерживая или отменяя в зависимости от задачи сопоставления или противопоставления групп. Идеология здесь вновь выступает определяющим фактором. Так, и русскую культуру в зависимости от поставленной задачи можно преподнести как часть мировой, а можно как колонизаторскую и враждебную.
во время конфликта естественной формой становится такой тип отношений как этнокультурный изоляционизм. Кавказ превратился в средневековую Европу — гладиаторскую арену междоусобных и локальных войн, межнациональных и межконфессиональных конфликтов. взгляды же на причины конфликта на Северном Кавказе можно сгруппировать в три крупных узла:
-
1) геополитическое положение для крупных держав (Иран, Афганистан, РФ, США);
-
2) внутрирегиональный узел выделения Кавказа (Чечня, грузия, Абхазия, Азербайджан);
-
3) выделение Северного Кавказа в отдельный регион.
Хронология конфликтов в этом регионе говорит, что начались они с территориальных требований к ближайшим соседям за первенство во власти над уже выделенными территориями. возьмем для примера феномен республик с двумя «титульными нациями» — Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесcию. в обеих существуют сходные авторитарные режимы двух «титульных наций»: одна более «титульная» (кабардинцы в КБР, карачаевцы в КЧР). И в той и в другой республиках активно пропагандируются идеи суперэтнического единства — «адыгского» — черкесов и кабардинцев, «тюркского» — балкарцев и карачаевцев.
Еще более важную роль играл Кавказ в ХХ в. в геополитике мировых держав Европы и Азии. в период гражданской войны и иностранной интервенции 1918–1922 гг. Закавказье и Дагестан были оккупированы англо-турецкими войсками36, во время второй мировой войны германия пыталась захватить Кавказ и выйти к берегам Персидского залива и Индии.
Известный американский политик и политолог Збигнев Бжезинский, отнеся Кавказ к «Евразийским Балканам», писал: «США, преследуя масштабные стратегические цели в Евразии заинтересованы не только в разработке ресурсов “Евразийских Балкан”, но и в предотвращении того, чтобы только Россия доминировала в геополитическом пространстве региона»37. Этот политик не только обращает особое внимание на наличие значительных и мало разработанных запасов природных ресурсов, но и на важное географическое положение региона в целом, являющегося перекрестком евразийских транспортных путей. То, что Бжезинский проделал серьезный анализ ситуации всего Кавказского региона, видно уже и по тому, что он даже перечислил существующие и потенциальные источники нестабильности в интересующей США зоне38.
К концу ХХ века, а точнее в 1991 г., США объявили Кавказ «зоной американских интересов». И интересы эти не убавляются, а заметно увеличиваются. весьма любопытно, что в своей последней статье все тот же Збигнев Бжезинский привлекает внимание правительства США и мировой общественности к Кавказскому региону таким образом: «в течение следующих нескольких десятилетий самым нестабильным и опасным регионом планеты, готовым в любой момент взорваться и ввергнуть мир в пучину хаоса, будет часть Евразии между Европой и Дальним востоком. Эту чрезвычайно важную подобласть Евразии, густо населенную мусульманами, можно назвать новыми глобальными Балканами… Именно здесь США имеют все шансы сползти к конфронтации с миром ислама — и это в то время, когда разногласия между Америкой и Европой способны привести даже к распаду Североатлантического альянса. Случись и то и другое — и американская гегемония в мире окажется под угрозой»39.
вполне очевиден интерес к Кавказскому региону со стороны Англии, Франции, германии, Турции, Ирана, Египта, ряда арабских стран. Повышенное внимание многих зарубежных государств придает российскому Северному Кавказу особое экономическое и военно-стратегическое значение. И здесь необходимо особо отметить тот факт, что Россия пришла на Кавказ вовсе не для войны с мес- тным населением, как это иногда преподносят. главным и основополагающим была защита Российских геополитических интересов в борьбе с Персией и Турцией. И до сих пор политическая и социально-экономическая стабильность в Кавказском регионе приобретает решающую роль в обеспечении национальной безопасности южных рубежей России.
в возникающих на Кавказе спорах используются прежде всего исторические факторы, которые включают в себя следующие группы явлений:
-
1) исторические события, в ходе которых складывались отношения народов;
-
2) исторические события, которые стали символом в ходе ныне развивающихся отношений;
-
3) особенности историко-социального развития народов.
Обычно национальный вопрос как вопрос возникает с целью формулирования причин межнациональной напряженности, когда чаще всего вспоминаются завоевания, насильственное присоединение, колониальное прошлое. Даже в случае добровольного присоединения нередко вспоминаются негативные случаи отношений с метрополией. Так, чеченцы на протяжении всей кавказской войны в XIX веке создавали образы своих национальных героев в борьбе с имперской политикой России.
Опорой России и в Центре и на Кавказе, например, всегда считались осетины, их допускали к центральной власти. Чеченцы же всегда покорялись и подавлялись. Сегодня оценка сталинских депортаций, когда-то обоснованная предательством в тяжелые военные годы, грозящие геноцидом славянской нации, сегодня некорректно преподносится как геноцид горцев русскими.
Разница социально-экономического положения близко живущих народов подчеркивает различия, особенно, если эти различия, а как уже было замечено, при сравнении обычно акцент делается на негативных явлениях, или даже если они незначительны по сравнению с положительным влиянием, то именно с их помощью можно обосновать свое требование поделиться хорошим.
Так, правовое равенство статусов русских и кавказских народов с законодательной точки зрения в СССР фактически давало преимущества и льготы в образовании и занятии должностей в представительных органах национальным республикам. Так было во времена коренизации и после смерти Сталина. Большинство населения страны было представлено меньшинством в Миннаце, Совете федерации и т.п.
Очевидно, что экономические факторы, стремящиеся к монополии, в конечном итоге и оказывают наибольшее влияние в развитии того или иного региона. Национальная экономика любого государства способствует движению от конфедеративных форм государственного устройства к федеративным, а затем и к унитарным. Крупные хозяйства, как известно, более выживаемы в условиях рынка, чем мелкие. Опыт объединения экономических интересов Европы в борьбе с Америкой тому подтверждение.
Конституция СССР предусматривала возможность выхода республик, однако, согласно той же Конституции, СССР являлся общим достоянием советского народа и, следовательно, был неделим. возможность выхода психологически все же не могла не ослаблять интеграционные экономические тенденции — иными словами заинтересованность республик в формировании единого народнохозяйственного комплекса. Складывалась такая ситуация, что республики, чей дополнительный продукт, образующийся при одинаковых затратах труда на лучших землях, на более богатых месторождениях и лесных угодьях, изымался для последующего межреспубликанского перераспределения, поэтому республиканские власти желали оставлять его в собственном распоряжении, одновременно требуя у государства дотации на развитие регионов.
Строго говоря, объективной необходимости существования республиканских звеньев управления в рамках единого народнохозяйственного комплекса не было. Многие отрасли народного хозяйства СССР управлялись только союзными министерствами, которые не имели республиканских звеньев управления. в то же время существовали и республиканские министерства (около 600). К моменту начала радикальной экономической реформы в 1987 году в СССР было около 800 республиканских, хозяйственных министерств и ведомств (не считая свыше 60 общесоюзных и союзно-республиканских центральных аппаратов, сосредоточенных в Москве).
Но с 1987 года начался процесс постепенного сокращения республиканских органов управления, обеспечивающих среди прочих мер переход к экономическим методам хозяйствования. Были реорганизованы министерства энергетики и электрификации, угольной промышленности, черной и цветной металлургии, геологии, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Одновременно часть министерств и ведомств была ликвидирована (или слита вместе).
Осуществленные преобразования позволили сократить численность работников аппарата министерств и ведомств СССР в среднем на 32%, ликвидировать около 200 министерств и ведомств в союзных республиках и 2,3 тыс. различных органов в автономных республиках, краях и областях.
Принципы и формы государственного устройства, характер политического строя всегда определяли государственную национальную политику СССР. Поэтому политические факторы в международных отношениях обусловливают исторический фактор или включаются в него.
Особое значение лидерству и власти (т.е. политическим факторам) всегда придается в конфликтологических теориях, где на первое место выводится роль элиты. во-первых, она задает идеологию толерантности или вражды. во-вторых, вырабатывает политику, которая будет направлена на примирение, снятие предубеждений или, наоборот, будет стимулировать фаворитизм. в-третьих, направляет деятельность средств массовой информации, которые играют громадную роль в формировании межэтнических установок и стереотипов. в-четвертых, определяет образовательные программы, влияющие на предотвращение или рост предубежденности, борется за власть знаний посредством знаний. И, в-пятых, наконец, служит как бы образцом поведения40.
Цель этих может быть для нации интегрирующей в единое согражданство, как в Эстонии, или плюралистической, учитывающей соучастие во власти различных национальностей. Так, либеральная политика Хрущева вызвала фактическое расширение прав наци- ональных республик, а либерализация конца 1980-х годов сопровождалась вооруженными конфликтами 1990-х. Это объясняется общедемократическими возможностями разного рода элит проявить свою отдельную от государства политику.
Существует довольно обоснованная точка зрения, что суть современных конфликтов лежит не в этничности, т.е. не в национальной сфере отношений — она лишь форма проявления противоречий социумов, объединенных в этнос. Так, например, функционалисты не видят этничности в конфликте русских с чеченцами. Там более очевиден конфликт криминальных групп за собственность. Если признать чеченский конфликт национальным, то придется признать криминальные черты за народом в целом. Но культурные ценности нации не могут включать в себя оправдание агрессии с целью захвата чего- либо или кого-либо41.
С точки зрения социально-структурных изменений причинами конфликтов могут быть процессы модернизации и интеллектуализации народов, которые проявляются в выравнивании уровня развития.
К концу 1990-х годов у большинства народов СССР сформировалась полиструктурная интеллигенция (административная, просветительская, научная, и производственная, художественно-творческая), и с этого момента начинаются претензии на наиболее привилегированные места, в том числе и во власти. Но пока центральная власть сильна, то занятие престижных мест происходит по старым правилам. Как только власть ослабевает, появляется возможность занять вершины42. И в этой связи в Российской Федерации на лицо реальность, поставившая под угрозу сохранение территориальной целостности государства, о чем метко заметила М. в. Каргалова: «На территории России действуют десятки местных правительств, которые пытаются осуществлять самостоятельную политику, проявляя порой склонность к сепаратизму и автоно-мизации»43.
Кроме того, практически во всех республиках Кавказа были созданы или воссозданы прежние националистические общественные организации: партии, союзы и т.д., которые стали активно «промывать мозги» населению своей республики, оттеняя при этом социальную нестабильность, проповедуя этносепаратизм, религиозный экстремизм, способствующие созданию нестабильной ситуации в каждом конкретном регионе.
Известный западный социолог С. Хантингтон, изучая модернизацию традиционных обществ, обратил внимание на то, что в переходные периоды, например при урбанизации, росте образования и необходимости доступа к информации, у групп возникают новые потребности, а способы их удовлетворения выбираются не всегда новые. Отставание социальных структур, прежде всего политических (управленческих), в удовлетворении потребностей населения ведет к конфликтам44.
Бурные события ХХ в. существенным образом сказались на традиционном образе жизни, занятиях и системе расселения местных народов Северного Кавказа. в первую очередь это было связано с резко усилившимся процессом урбанизации. Еще в конце XIX в. удельный вес городского населения Северного Кавказа был невысок, хотя, как и в дореформенный период, он был близок к показателям город- ского населения Европейской России. По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. на территории Северного Кавказа находилось всего 17 городов45.
Материалы переписей, проанализированные Е. А. Зуйкиной, свидетельствуют о том, что города Северного Кавказа с самого начала отличались многонациональным составом населения, при этом наибольшее количество составляли русские поселенцы. По данным переписи 1897 г. в городах Дагестана проживало более 66 тыс. чел., из них 28523 русских и 10572 горца. Перепись 1926 г. дает следующую картину: общее количество городского населения свыше 82 тыс. челове, из них русских — около 33 ттыс. человек, кумыков — 6425 человек, аварцев — 1820 человек, лезгин — 907 человек. Число рабочих из местных народов Дагестана было незначительным. Квалифицированный отряд рабочего класса сложился благодаря притоку русского населения. в 1911 г. на предприятиях Баку насчитывалось порядка 35 тыс. рабочих и служащих, из них дагестанцев было только 8%, на механических заводах — 2,4%, на нефтеперерабатывающих предприятиях — 1,6%46.
Список литературы Опасная и вредная информация: кавказские аспекты проблемы
- Хантингтон Л. В. Столкновение цивилизаций?//Полис. 1994. -№ 1. С. 33.
- Куприянова Л. В. Города Северного Кавказа во второй половине века. -М., 1981. С. 155-156.
- Зуйкина Е. А. К вопросу о русских в системе межнациональных отношений на Северном Кавказе//Северный Кавказ: выбор пути национального развития. -Майкоп, 1994. С. 129.
- Кузнецов.А.,Чеченов И.М. История и национальное самосознание(проблемы современной историографии Северного Кавказа). -владикавказ, 2000. -С. 6
- Гаджиев М. С., Кузнецов в. А., Чеченов И. М. История в зеркале паранауки: критика современной этноцентристской историографии Северного Кавказа. -М.: ИЭА РАН, 2006.
- Дегоев В. В. Региональные угрозы глобальному порядку (Кавказ в международно-геополитической системе XVI-XX вв.)//Дегоев В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. 2-е изд. -М.: SPSL -«Русская панорама», 2003. -С. 332.
- Захаров В. А. К истории казачества на юге России//История казачества юга России. -М., 1998. -С. 3.
- Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. где стояли Сунженские городки?//вопросы истории. -1972. -№ 7. -205-208;
- Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О времени заселения гребенскими казаками левого берега Терека//«История СССР». -1975. -№ 6. -С. 160.
- История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. -М.: Наука, 1988. -С. 311-327.
- Краткий исторический очерк христианства кавказских горцев со времен Св. Апостолов до в./Публ. и коммент. в. А. Захарова//Сборник Русского исторического общества. Т. 2 (150)./Под ред. Рапова О. М. -М.: «Русская панорама», 2000. -С. 24-27.
- Кушева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией вторая половина XVI -30-е годы XVII века. -М., 1963. -С. 5, 18.
- Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XII-XIX вв. -Нальчик, 1974. -С. 23
- Лапинский Теофил (Теффик-бей). горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание очевидца… -Нальчик: Издат. центр «Эль-Фа», 1995.
- Клычников Ю. Ю. Деятельность генерала А. П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827)//Сборник Русского исторического общества. Т. 2 (150)./Под ред. О. М. Рапова. -М.: «Русская панорама», 2000. -С. 72-83;
- Клычников Ю. Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). -Пятигорск, 2002
- Вачагаев М. М. Чечня в годы Кавказской войны (1816-1859). Автореферат дисс. … канд. ист. наук. -М., 1995. -С. 5;
- История народов Северного Кавказа (конец XVIII-1917). -М.: Наука, 1988. -С. 49;
- Перевернутый мир бесконечной войны («круглый стол»). -«Родина». -1994. -№ 3-4. -С. 22.
- Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны. -Тифлис, 1860. -С. 19.
- Дегоев В. В. Региональные угрозы глобальному порядку… С. 334.
- Георгиев В. А., Георгиева Н. Г. Кавказская война (1829-1864 гг.)//Сб.РИО Т. 2 (150)/Под ред. О. М. Рапова. -М.: РИО, «Русская панорама», 2000. -С. 158-170.
- Старайтесь убедить их, что сии агенты суть бродяги». Неизвестные документы Хан-гирея/Публикация и комментарии Захарова в. А.//Источник. -2003.-№ 2.-С. 36-40.
- Дегоев В. В. Кавказский вопрос в международных отношениях 30-60-х годов XIX века. -владикавказ: Изд-во СевероОсетинского гос. ун-та, 1992.
- Дегоев В. В. Региональные угрозы глобальному порядку... С. 334.
- Кандур Мухадин. Мюридизм. История Кавказских войн 1819-1859 гг. -Нальчик: Эль-ФА, 1996. -С. 290-296.
- Тишков в. А. Концептуальная эволюция национальной политики в России//Исследования по прикладной и неотложной этнологии. -М., 1996. № 100. -С. 6.
- Ященко А. С. Теория федерализма. -Юрьев, 1912. -С. 392.
- Кокошкин Ф. Ф. Автономия и федерация. -Прг., 1917. -С. 14, 29.
- Куличенко М. И. Национальные отношения в СССР и тенденции их развития. -М.: «Мысль», 1972. -С. 201.
- Карр Э. История Советской России. Кн. 1. Том 1 и 2. Большевистская революция. 1917-1923. -М., 1990. -С. 300
- Аршаруни А., габидуллин Х. Очерк панисламизма и пантюркизма в России. -Лондон, 1990. -С. 125.
- Этносоциология. Уч. пособие для вузов/Арутюнян Ю. в., Дробижева Л. М., Сусколов А. А.. -М.: Аспект пресс, 1999. -С. 55.
- Народы Дагестана/Отв. ред. Арутюнов С. А., Османов А. И., Сергеева г. А.. -М.: «Наука», 2002. -С. 148, 158
- Конституция Республики Дагестан//Конституции, уставы и договоры субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе. -Ростов-на-Дону, 1998. -С. 201-206.
- Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. -М., 1989. -С. 212-213.
- Хангтингтон С. Столкновение цивилизаций? -«Полис». -1994. -№ 1. -С. 33, 43.
- Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева в. в., Солдатова г. У. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. -М.: Мысль, 1997.
- К вопросу о «Кавказском доме» и пантюркистских устремлениях//Этнические и региональные конфликты в Евразии: в 3 кн.: Кн. 1. Центральная Азия и Кавказ/Общ. ред. А. Малашенко, Б. Коппитерс, Д. Тренин. -М.: Изд-во «весь Мир», 1997. -С. 142-149
- Бжезинский Збигнев. великая шахматная доска. М., 1998. С. 150, 168.
- Бжезинский Збигнев. Зыбучие пески гегемонии//Россия в глобальнойполитике.-2004.-Т.2.-№2. Март-апрель.-С. 187.
- Этносоциология… С. 196.
- Каргалова М. В. От социальной идеи к социальной интеграции. -М.: «Интердиалект +», 1999. С. 286.