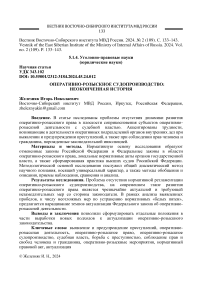Оперативно-розыскное судопроизводство: неоконченная история
Автор: Железняк И.Н.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки (юридические науки)
Статья в выпуске: 2 (109), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В статье исследованы проблемы отсутствия динамики развития оперативно-розыскного права в плоскости соприкосновения субъектов оперативно-розыскной деятельности с судебной властью. Акцентированы трудности, возникающие в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел при выявлении и предупреждении преступлений, а также при соблюдении прав человека и гражданина, порожденные законодательной инволюцией.
Выявление и предупреждение преступлений, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное право, оперативно-розыскное судопроизводство, судебная власть, борьба с преступностью, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, оперативно-розыскные мероприятия
Короткий адрес: https://sciup.org/143182590
IDR: 143182590 | УДК: 343.102 | DOI: 10.55001/2312-3184.2024.45.24.012
Текст научной статьи Оперативно-розыскное судопроизводство: неоконченная история
-
5.1.4 Criminal Law Sciences (Legal Sciences)
Original article
OPERATIONAL INVESTIGATIVE PROCEDURES:
THE UNFINISHED STORY
Igor N. Zheleznyak
Introduction: examines the issues of the lack of progress in the development of operational investigative law with regard to the interaction between operational investigators and the judiciary. It emphasizes the difficulties that arise in the work of operational units within law enforcement agencies in detecting and preventing crimes, as well as ensuring human and civil rights, due to legislative backwardness.
Materials and methods: The normative basis for the study is provided by repealed laws of the Russian Federation, federal laws in the field of operational investigation law, local regulations of state authorities, and the established practice of the Supreme Courts of the Russian Federation. The methodological basis for the research is the general dialectical method of scientific cognition, which is universal in nature. Other methods used include generalization and description, observation, comparison, and analysis.
The Results of the Study: indicate that the lack of regulation of operational investigative procedures is a significant issue that requires immediate attention from the legislature. As part of our analysis, we have identified several gaps in the current operational investigative laws that need to be addressed. One of the proposed solutions is to increase the speed of updating the Federal Law on Operative Investigative Activities.
Findings and Conclusions: of this study have led to the formulation of some recommendations for developing new approaches to the updating of operational investigative legislation. These recommendations aim to ensure that operational investigative procedures are conducted in a way that respects human and civil rights and freedoms while effectively combating crime.
neokonchennaya istoriya [Operational Investigative Proceedings: An Unfinished Story].
Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Irkutsk. 2024, no. 2 (109), pp. 133-143.
Хаос – это порядок, который нужно расшифровать.
Жозе Самарго «Двойник»
Исследователи российского сыска в своей увлеченности не многим отличаются от представителей иных отраслей отечественной науки. Фундаментальные основы и логические структуры, закономерности и противоречия, нормативные пробелы и десятилетия законодательной безынициативности, практическая применимость и фрактальная бесполезность – все нити оперативно-разыскного полотна переплетены в замысловатый узор, пленяющий научный голод молодого наблюдателя.
К сожалению, пройдя земную, а в некоторых случаях и научную жизнь до половины, в моменте научного отчаянья исследователь сыска, проходящий все стадии принятия неизбежного 1 , непродолжительно торгуясь сам с собой в поиске причин малоэффективности его научных изысканий, оказывается в «сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины» 2 . Но аллегории безоружны, а громкие слова лишь сотрясают воздух, но не собеседника.
Последовательно и неизбежно наступает стадия принятия, в ходе которой исследователь сыска в подавляющем большинстве случаев переходит в состояние научного анабиоза либо в количестве, сравнимом с математической погрешностью, перерождается в апологета отечественной сыскологии 3 , с фундаментальным осмыслением теории, формированием научных школ и оформлением авторского оперативно-розыскного катехизиса.
Причисляя себя к начинающим исследователям оперативно-розыскной материи и всемерно профилактируя научный анабиоз, мы предлагаем продолжить серию изысканий [1], свидетельствующих об инволюции в сфере нормативного правового регулирования основ профессионального сыска в Российской Федерации и поиска химер, изначально затаившихся внутри его правовой регламентации.
Автор, не раз обращался к примерам стагнации оперативно-розыскного законодательства [1, 2, 3] отмечая преступную самоуспокоенность нормотворцев в указанной области правоохранительной деятельности. В свете сказанного заслуживает поддержки мнение М. С. Десятова, согласно которому оперативно-розыскное законодательство требует развития, что обусловлено запросами общества на обеспечение его безопасности от криминальных угроз, а это на современном этапе невозможно без использования негласных методов, в том числе связанных с ограничением права граждан на неприкосновенность частной жизни, с применением современных информационных технологий и пр. [4].
При этом, рассматривая оперативно-розыскную деятельность как неотъемлемую часть государственности, значительно интереснее искать и детектировать причину ее несовершенства в более глубинных слоях устройства власти.
Коснемся первоисточника. Статья 10 российской Конституции4 декларирует, что власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны5.
Первую и вторую составляющую указанной нормы (законодательную и исполнительную власть – И. Ж.) исследователи оперативно-розыскной деятельности давно и подробно препарировали с позиции профессиональных интересов на мельчайшие детали, в то время как третья, в силу своей условной священности, до сих пор является тёмной и не изученной стороной оперативно- розыскного аспекта.
Тезис о присутствии судебной власти в оперативно-розыскной материи является аксиомой даже для студента третьего курса юридического вуза, что не снижает актуальности существующей проблемы ее не исследованности в рассматриваемом нами ключе. Все ли в действительности в порядке во взаимоотношении субъектов оперативно-розыскной деятельности и судебной власти? Являются ли они эффективными участниками совместных процессов? Насколько законодательно корректно урегулирована их деятельность в рамках решения одних задач? Являются ли их задачи едиными с позиции принципа разделения властей?
Вопросов в указанной области масса, и нам предстоит фрагментарно ознакомиться с некоторыми из них.
Опорной точкой исследования мы предлагаем избрать перечень соприкосновений судебной власти с субъектами оперативно-розыскной деятельности в рамках решения их основных задач.
Направлениями подобного взаимодействия традиционно принято считать:
-
1. Судебный контроль 6 за проведением оперативно-розыскных мероприятий (далее – направление № 1).
-
2. Исполнение в рамках судебного следствия определений суда по уголовным делам находящимся в его производстве, (далее – направление № 2).
-
3. Рассмотрение уголовных дел судами различных инстанций с исследованием доказательств, добытых в результате оперативно-розыскного документирования действий обвиняемых (далее - направление № 3).
-
4. Оценка судами заявлений и жалоб физических и юридических лиц о признании незаконными действий и решений органов и должностных лиц в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий (далее – направление № 4).
Мы умышленно не включаем в формируемый перечень направлений бесконтрактной формы содействия судей субъектам оперативно-розыскной деятельности и взаимодействия между судебной властью и субъектами ОРД (далее – стороны) в рамках осуществления мер государственной защиты судей. 7 Они, несомненно, тоже имеют свои «черные дыры» и «белые пятна» [5], однако не являются репрезентативно яркими в рамках исследуемой нами проблемы.
Все четыре перечисленных направления взаимодействия сторон изначально выглядят отвечающими решению одной общей задачи – борьбе с преступностью.
Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон, ФЗ об ОРД), одной из задач ОРД является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Ранее мы отмечали, что указанная задача представляется нам фундаментальной по отношению к остальным трем перечисленным там же, ведь именно она свидетельствует о «генетическом коде» сыскной деятельности, заложенном в основу профильного закона. Борьба (в широком понимании этого слова) с преступлениями является «спиралью ДНК» в ФЗ об ОРД [6].
И роль конкретного суда, как и судебной власти в целом, в рамках решения этой задачи вполне очевидна – это реализация права на судебную защиту.
Вместе с тем любое юридически значимое действие должно быть ясным, нормативно урегулированным не противоречащими друг другу положениями, исключая тем самым фактор коррупциогенности, открывающий для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения.
Закреплённое в ст. 46 Конституции России право на судебную защиту претворяется посредством судопроизводства.
Право на судебную защиту в полной мере может быть использовано только в случае определённых гарантий реализации данного права. Выработанные процессуальные правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации, касающиеся реализации конституционного права граждан на судебную защиту и права на жалобу, определяют порядок толкования применения общих принципов судопроизводства – равноправия сторон, состязательности, диспозитивности, гласности – в уголовном, административном, гражданском и арбитражном процессах; критериев обособления видов судопроизводства, принципов, института подсудности, доказательств и доказывания; особенностей апелляционного, кассационного, надзорного производств, статуса судей и др. [7].
Гласность и состязательность сторон не очень укладываются в принципы, коррелирующие с оперативно-розыскными, что было предметом рассмотрения отдельном определении Конституционного Суда Российской Федерации8, и в целом не представляют какой либо юридической коллизии для правоприменителя. А вот равноправие сторон, диспозитивность и в особенности обособление видов судопроизводства, института подсудности, особенностей апелляционного, кассационного, надзорного производств, вопрос статуса судей выступают как никогда остро и детерминируют наличие химер, свидетельствующих об инволюции в сфере нормативного регулирования основ профессионального сыска.
Возвращаясь к первоисточнику, мы отмечаем, что в соответствии со ст. 118 Конституции России судебная власть осуществляется посредством конституционного9, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
Попробуем сопоставить в рамках борьбы с преступностью четыре определённых нами направления взаимодействия сторон с принципами реализации права на судебную защиту, отмеченными как проблемные.
Направление № 1 в рамках определения института судопроизводства имеет весьма печальные перспективы, о чем ранее отмечал В. В. Николюк [8]. В ФЗ об ОРД при рассмотрении вопросов судебного контроля вид судопроизводства не регламентирован, узконаправленные процессуальные кодексы 10 также не представляют это направление взаимодействия сторон .
Опираясь на принцип правовой определенности мы солидаризируемся с позицией А. Е. Чечётина [9], заключившего, что Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 2011 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и части первой статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с жалобой гражданина И. В. Аносова», также не добавило нормативной ясности в вопрос определения судопроизводства при осуществлении судебного контроля.
Направление № 2 и направление № 3 в рамках определения института судопроизводства при соприкосновении интересов сторон связанно с проведением оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) по проверке информации о противоправных деяниях и лицах, к ним причастных, а соответственно подлежит разрешению в процедурах, обусловленных характером уголовных и уголовнопроцессуальных отношений, поэтому эта судебная деятельность относится к сфере уголовного судопроизводства.
Направление № 4 на протяжении своего существования с момента принятия ФЗ об ОРД многострадально испытывало всю полноту ущербности нормативного промаха при определении вида судопроизводства, способного удовлетворить качество и правовую определенность в исследуемом вопросе.
Так, изначально вопросы рассмотрения судами заявлений и жалоб физических и юридических лиц о признании незаконными действий и решений органов и должностных лиц в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий, рассматривались судами общей юрисдикции в порядке, определенном Законом РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу). Причем, в связи с отсутствием в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации от 5 мая 1995 г. № 70-Ф3 (утратил силу) главы, регулирующей судебную защиту прав юридических лиц, соприкоснувшихся с субъектами оперативно-розыскной деятельности, указанным законом руководствовались также и представители юридических лиц, связывающих нарушение прав организаций с личными правами заявителей.
Впоследствии с принятием АПК РФ, УПК РФ и ГПК РФ вопросы рассмотрения судами заявлений и жалоб о признании незаконными действий и решений органов и должностных лиц при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий рассматривались соответствующими судами с разделением судопроизводства по
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 14 июня 2002 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: (дата обращения: 02.03.2024). Режим доступа: свободныи.̆ Далее по тексту: «АПК РФ».
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. №21-ФЗ (в послед. ред.) : принят Гос. Думой 20 февраля 2015 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: (дата обращения: 02.03.2024). Режим доступа: свободный.
принципу правового статуса инициатора жалобы или заявления, а именно градации на физических и юридических лиц.
В 2009 г. сложившаяся, но не подкрепленная принципом единства практика судов общей юрисдикции по рассмотрению жалоб и заявлений физических лиц о признании незаконными действий и решений органов и должностных лиц в рамках осуществления оперативно-розыскных мероприятий позволяла заявителям обращаться, по сути, с одним и тем же требованием в порядке двух взаимоисключающих судопроизводств: гражданско-процессуального и уголовнопроцессуального. Не лишним будет упомянуть, что равноправие сторон, диспозитивность, срок для защиты нарушенного права, особенности апелляционного, кассационного, надзорного производств - всё в этом случае отличалось. Кроме того, в случае отказа в удовлетворении требований у заявителя существовала возможность обращения за защитой нарушенного права в ином судопроизводстве.
Указанная ситуация, явно не отвечающая принципу правовой определенности, при отсутствии законотворческих инициатив понудила Верховный Суд Российской Федерации для восстановления гражданами нарушенных прав разъяснять нормативно не урегулированные вопросы соотнесения оперативно-розыскных мероприятий с существующими видами судопроизводств.
-
1. Так, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 №1 (ред. от 28.06.2022) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» было разъяснено, что, исходя из положений части 1 статьи 125 УПК РФ, могут быть обжалованы решения и действия (бездействие) должностных лиц в связи с их полномочиями по осуществлению уголовного преследования.
-
2. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» (утратило силу) было разъяснено, что в порядке, предусмотренном главой 25 ГПК РФ, могут быть оспорены действия должностных лиц, совершенные ими при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий и не подлежащие обжалованию в порядке уголовного судопроизводства, а также действия должностных лиц
Кроме того, судам разъяснялось, что ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД предоставляет право лицу, полагавшему, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа дознания привели к нарушению его прав и свобод, обжаловать эти действия в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.
Вместе с тем не соответствующие при этом общие принципы главы 16 УПК РФ, такие как определение заявителя и субъекта ОРД как участников уголовного судопроизводства, определение места рассмотрения заявления по подсудности производства предварительного расследования, определение наличия самого уголовного дела или материала доследственной проверки, а также исчисление сроков давности обращения в суд за защитой нарушенного права, позволяли недобросовестному заявителю злоупотреблять правосудием.
оперативно-розыскных органов, отказавших лицу, виновность которого не доказана в установленном законом порядке, в предоставлении сведений о полученной о нем в ходе оперативно-розыскных мероприятий информации, или предоставивших такие сведения не в полном объеме (части 3 и 4 статьи 5 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности").
Вместе с тем п.1 ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 14.07.2022) «О Верховном Суде Российской Федерации» указывает, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации рассматривает материалы анализа и обобщения судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации, а не является инструментом, приводящим законодательство к стандартам правовой определенности (выделено нами – И. Ж.).
Следующим шагом государства на пути установления «ясности» в исследуемом нами вопросе стали упразднение главы 25 ГПК РФ «Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №2 и принятие КАС РФ, содержащего положения, идентичные 25 главе ГПК РФ.
В завершение исследования исторически-нормативной ретроспективы поиска правовой определенности в вопросе идентификации судопроизводства, подходящего оперативно-розыскной деятельности, хочется выразить уверенность, что под конец третьего десятилетия существования ФЗ об ОРД нормодатель перестанет беспрестанно удивлять правоприменителя, а профильное законодательство, столь важное при решении задач борьбы с преступностью, приобретет в составе своей терминологии такое понятие, как оперативно-розыскное судопроизводство.
Список литературы Оперативно-розыскное судопроизводство: неоконченная история
- Железняк, И. Н. Химеры в оперативно-розыскной деятельности: хроники инволюции / И. Н. Железняк // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 4(24). С. 83-91. DOI: 10.55001/2587-9820.2022.85.36.010 EDN: DALRIQ
- Железняк, И. Н. Точка бифуркации закона об оперативно-розыскной деятельности / И. Н. Железняк // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 2(105). С. 142-154. DOI: 10.55001/2312-3184.2023.86.75.013 EDN: RMDMRE
- Железняк, И. Н. О некоторых проблемах оперативно-розыскного рекрутинга лиц, заключивших контракт о конфиденциальном содействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность / И. Н. Железняк // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 2(39). С. 35-40. DOI: 10.51980/2542-1735_2020_2_35
- Десятов, М. С. Правоприменительное усмотрение в оперативно-розыскной деятельности: подходы к определению понятия и содержания / М. С. Десятов // Законодательство и практика. 2022. № 2(49). С. 34-38. EDN: VGSENY
- Железняк, Н. С. "Черные дыры" и "белые пятна" Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" / Н. С. Железняк. Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2006. 64 с. EDN: QDUQMK
- Железняк, И. Н. Оценка законодательной инициативы Верховного Суда Российской Федерации о введении понятия "уголовный проступок": вопросы наказуемости и оперативно-розыскной деятельности / И. Н. Железняк // Вестник Кузбасского института. 2021. № 4(49). С. 58-64. DOI: 10.53993/2078-3914/2021/4(49)/58-64 EDN: PRKNMK
- Сторожова, Е. Ч. О взаимодействии конституционного и гражданского судопроизводства и юридическом понятии "гражданское судопроизводство" / Е. Ч. Сторожова, О. А. Львова // Право и государство: теория и практика. 2019. № 11(179). С. 255-256.
- Николюк, В. В. Квазиконтроль суда за проведением оперативно-розыскных мероприятий / В. В. Николюк, В. А. Виноградова // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 1(65). С. 122-130. DOI: 10.24412/2072-9391-2023-165-122-130 EDN: AUWDZB
- Чечётин, А. Е. Предварительный судебный контроль за проведением оперативно-розыскных мероприятий в контексте права на законный суд / А. Е. Чечетин // Российское правосудие. 2013. № 2(82). С. 94-97. EDN: QCLQEF