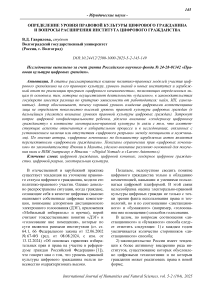Определение уровня правовой культуры цифрового гражданина и вопросы расширения института цифрового гражданства
Автор: Гаврилова В.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается влияние политико-правовых моделей участия цифрового гражданина на его правовую культуру, уровень знаний о новых институтах и зарубежный опыт по реализации программ «цифрового кочевничества», позволяющих определенным лицам (в основном, тем, которые осуществляют деятельность «удаленно», в законодательствах государств имеется разница по критерию зависимости от работодателя: найм, ИП, самозанятые). Автор обосновывает, почему хороший уровень владения цифровыми компетенциями лица не определяет повсеместно высокий уровень правовой культуры цифровых граждан (в дальнейшем уделяется внимание уровням правовой культуры цифровых граждан). Затронут вопрос цифровой конфиденциальности ребенка, уделено внимание «гендерному цифровому гражданству» в контексте электорально-правовой культуры (в связи с тем, что соответствующие аспекты отмечаются в избирательном процессе и в исследованиях, связанных с установлением наличия или отсутствия «цифрового разрыва» между женщинами и мужчинами). По мнению автора, «цифровые кочевники» по большинству зарубежных актов являются перспективными «цифровыми гражданами». Показаны ограничения прав «цифровых кочевников» по законодательству Японии и Мальты, уделено внимание различию оснований для получения визы и ВНЖ (например, в Италии – «Digital Nomad» и «Lavoro Autonomo»).
Цифровой гражданин, цифровой кочевник, гендерное цифровое гражданство, цифровой разрыв, электоральная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/170209355
IDR: 170209355 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-145-149
Текст научной статьи Определение уровня правовой культуры цифрового гражданина и вопросы расширения института цифрового гражданства
В отечественной и зарубежной практике существует тенденция на уточнение правового статуса цифрового гражданина, модели его политико-правового участия. Однако довольно распространены ситуации, когда граждане, сознающие себя в качестве цифровых (высоко оценивают собственные цифровые компетенции, понимание алгоритмов дистанционного электронного голосования (ДЭГ), приложения «Мобильный избиратель» и прочее), порой считают тождественными понятия «ДЭГ» и «голосование вне помещения», которые по сути являются разными институтами (ст. ст. 64.1, 66 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 13.12.2024) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1]), что говорит нам о том, что уровень правовой культуры цифрового гражданина нельзя повсеместно охарактеризовать высоко.
Полагаем, недопустимо сводить понятие цифрового гражданства только к обладанию компетенцией, навыками и умениями пользоваться цифровой платформой. В этой связи целесообразна оценка электорально-правовой культуры цифровых граждан не только с точки зрения факта использования права и технологий, но и по соотношению «дистанционного» и «бумажного» (например, «голосование вне помещения») способов голосования.
В целом, по вопросам соотношения «дистанционного» и «бумажного» способа следует отметить следующее: 1) с каждым годом увеличивается количество сторонников «дистанционного» способа;
-
2) законодательство России имеет тенденции к более активному внедрению ряда институтов, существование которых обусловлено цифровыми технологиями и по которым гражданин может реализовать права в новой форме;
-
3) анализ зарубежной практики свидетельствует о некоторых проблемах при интеграции инструментов цифрового гражданства.
Кроме того, при анализе «цифрового гражданства» представляется интересным разграничить различные группы цифровых граждан: например, несмотря на то что «гендерное цифровое гражданство» в сущности совпадает с понятием «цифрового гражданства» (основывается на принципе равенства), в опросах и выступлениях должностных лиц публичной власти отмечается разный уровень реализации цифровыми гражданами предоставленных правомочий по половому признаку.
Например, при комментировании результата опроса ВЦИОМ Э.А. Памфилова уделила определенное внимание «гендерным предпочтениям» [2], затронув таким образом «гендерное цифровое гражданство»: так, председатель сообщила, что из проголосовавших посредством федерального ДЭГ большинство -66% - женщины. Э.А. Памфилова предположила, что возможные причины - занятость на работе и по хозяйству, более высокая оценка своего времени и так далее. На первый взгляд, данное замечание так же можно расценить как некоторую «деталь», и, кроме того, возможности мужчин и женщин юридически одинаковы, определение гендерного цифрового гражданства идентично цифровому гражданству.
Однако данный факт может быть оценен и с точки зрения «цифрового разрыва», в том числе в сознании общества «между мужчинами и женщинами». Разумеется, независимо от пола граждане могут по-разному относиться к процедуре, предпочитать более привычный поход на избирательный участок, игнорировать возможные новые формы осуществления права и прочее. Однако такой факт, выявленный именно применительно к использованию систем ДЭГ, представляет интерес, поскольку прямо указывает на более высокий уровень гражданственности цифрового гражданина среди женщин в обозначенный период.
В свою очередь, практика зарубежных государств указывает на различия цифровых знаний и статистики использования прав цифровым гражданином по критерию пола. Например, в Университете имени Султана Кабуса была разработана шкала уровней цифрового гражданства [3, с. 550] по результатам изучения цифровых идентичности, безопасности, этики, глобальной коммуникации и других подобных показателей, по которой прослеживалось, что цифровые навыки на более высоком уровне развиты у женщин (при этом исследование проводилось с участием как студентов Университета, так и обычных граждан).
Оценка гибкости цифрового мышления может быть произведена не только по критерию пола, но и по критерию возраста (что очевидно), при этом интерес представляют дети, вовлеченные в создание «контента» на различных платформах (например, различные ролики с родителями, заявленные как юмористические). Так, например, по мнению Франциско Хосэ Аранда Серна, родители таким образом переносят свою цифровую идентичность на ребенка, искажая его собственную, и тем самым нарушают его цифровую конфиденциальность [4, с. 401].
Разумеется, сфера прав и интересов ребенка в большей степени относится к семейному праву, при наличии (в том числе, в социальной сети) действий со стороны родителей, создающих «непосредственную угрозу жизни и здоровью ребенка» [5] имеются механизмы, позволяющие незамедлительно осуществить процедуру отобрания ребенка у родителей с последующим обращением в суд для лишения родительских прав и т.д. Однако замечание названного ученого имеет место и в контексте настоящего исследования, поскольку у детей не сформировано целостное представление о себе и цифровой среде, нельзя говорить об осознанном желании и, тем более, о правовой культуре цифрового гражданина. Отметим, что аналогичные ситуации получили широкий общественный резонанс и в Российской Федерации [6].
В контексте изложенного следует отметить, что цифровая идентичность хотя и отражает степень самостоятельности гражданина в цифровом пространстве, но не свидетельствует о необходимости полной или частичной замене иных категорий (например, социальной идентичности): «цифровая идентичность» гражданина может не совпадать с идентичностью социальной (деятельность в цифровом и обычном пространстве различается, может иметь место и специфика при создании цифрового «контента» и так далее).
Это составляет онтологический компонент культуры цифрового гражданина. В свою очередь, сохраняя цифровую конфиденциальность и развивая цифровые компетенции, лицо на информационном и коммуникационноэтическом уровнях правовой культуры цифровых граждан проявляет цифровую идентичность разными способами и с разной «интенсивностью».
Вместе с тем, при оценке правового статуса, компетенций цифрового гражданина как полноценного участника общественных отношений в цифровом среде считаем необходимым уделить внимание такому феномену, который, на наш взгляд, будет справедливо охарактеризовать как «из цифрового кочевника в цифрового гражданина».
По смыслу Указа МВД Италии от 29.02.2024 г. № 24A01726 [7] под термином цифровой кочевник («nomadi digitali») понимается гражданин государства, не состоящего в ЕС, имеющий статус самозанятого или индивидуального предпринимателя (в целом то, что не охватывается понятием «работа в найме») и осуществляющий деятельность (или часть) дистанционно («с технологическими инструментами», «удаленно»). Думается, это наиболее существенные признаки, отраженные в подзаконном акте.
Уточним, что данное понятие выделяется наряду с «удаленным работником (сотрудничество дистанционно) и «высококвалифицированным работником». Из анализа законодательного декрета Италии от 25.07.1998 № 286, опубликованного в официальном издании «Gazzetta Ufficiale» №191 [8] следует, что высокая квалификация связывается с уровнем образованием «иностранца» и «профессиональным опытом» свыше 5 лет.
Однако отметим, что данное понятие может характеризовать лицо и как «цифрового кочевника», и как «удаленного работника» в зависимости от их формы деятельности. Полагаем, что оно было выделено в ранее упомянутом Указе МВД Италии, в целях недопущения ограничения положения о ВНЖ только дистанционной формой работы (но фактически в большей части Указа сделан акцент на «цифровых кочевниках»).
Из анализируемого Указа МВД Италии следует, что ВНЖ «цифрового кочевника» действует не более года, в дальнейшем об- новляется (п. 3 ст. 4 Указа), при этом по смыслу анализируемых актов статус цифрового кочевника позволяет говорить как о наличии визы, так и о ВНЖ. Программа «Digital Nomad» позволяет в дальнейшем претендовать на ПМЖ и гражданство путем электронного взаимодействия с органами власти.
Отметим, что в настоящее время аналогичный институт существует и в Испании (выдается на 3 года с 2023 г.), Португалии (выдается на 4 месяца или 2 года с 2022 г.), Южной Корее (выдается на 2 года с 2024 г.), Казахстане (выдается на срок не более года с 2024 г., при этом предусмотрены более низкие сроки для получения ПМЖ – 1 или 2 года в зависимости от того, была ли выбрана однократная или многократная виза). На наш взгляд, существующие законодательные конструкции позволяют говорить о возможности оперативного продления ВНЖ при условии сохранения высокого уровня дохода заявителя.
Однако, сравнительно-правовой анализ практики зарубежных государств позволяет выделить ряд исключений, связанных с применением положений о «цифровом кочевничестве»:
-
1) в некоторых государствах отсутствует общая тенденция к увеличению сроков предоставления статуса «цифрового кочевника»: так, например, в Японии «цифровые кочевники» могут проживать лишь 6 месяцев и подать повторное заявление на ВНЖ спустя новые 6 месяцев [9];
-
2) не все государства позволяют «цифровым кочевникам» получить гражданство (например, по смыслу ряда разъяснений законодательства на портале Агентства по вопросам резидентства на Мальте «цифровой кочевник» не может получить ПМЖ или гражданство [10];
-
3) не все государства наделяют «цифровых кочевников» социально-экономическими правами, которые возможно реализовать на территории соответствующего государства: например, на территории Мальты у «цифровых кочевников отсутствуют права на социальные выплаты, бесплатное образование, осуществление трудовой и иной экономической деятельности.
В связи с изложенным полагаем, что сущность программы для цифровых кочевников Мальты сводится к тому, что государство предоставляет возможность проживать на своей территории, признавая высокий и стабильный уровень дохода иностранца. Если же «цифровой кочевник» захочет осуществлять трудовую деятельность, он должен подать заявление на портал ранее указанного Агентства, чтобы изменить основание для визы (трудоустройство или самозанятости), в ином случае ВНЖ будет аннулирован.
Из данного замечания следует, что законодательство Италии и ряда других зарубежных стран рассматривает «цифрового кочевника»
и с точки зрения резидента, перспективного гражданина и налогоплательщика. Одновременно законодательство Мальты, обеспечивающей ясные условия подачи документов и уточняющей многие сложные практические вопросы (по сравнению с практикой Италии, которая исходит из общего Указа МВД 2024 г. и консульских регламентов), не рассматривает вопрос в поле цифрового гражданства. Полагаем, что выгода государства от данной процедуры заключается в том, что «цифровые кочевники», не проявляясь на отечественном рынке труда, одновременно создают спрос на недвижимость (договоры аренды, купли-продажи). Кроме того, уточним феномен «цифрового кочевничества»:
-
1) процесс получения гражданства «цифровым кочевником» в основном имеет дистанционный характер (государства осуществляют описанные процедуры удаленно, от заявителей требуется обладание высоким уровнем цифровых навыков и компетенций по работе в ряде государственных платформ);
-
2) при определении статуса «цифрового кочевника» необходимо исходить из того, что
- цифровой гражданин осознает разницу между рядом оснований для получения визы и ВНЖ (полагаем, это прослеживается на примере разницы между основаниями в Италии: «Digital Nomad» и «Lavoro Autonomo»);
-
3) «цифровых кочевников» справедливо рассматривать в качестве перспективных «цифровых граждан», поскольку в большинстве случаев «по давности проживания» лицо может получить гражданство и реализовать ряд прав в цифровой форме.
-
2. Дистанционное электронное голосование: мониторинг. 13.03.2024. – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/distancionnoe-
- ehlektronnoe-golosovanie-monitoring.
-
3. Боков Ю.А., Гаврилова Ю.А. Правовые проблемы цифрового гражданства // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2024. – Т. 28, № 3. – С. 546-564.
-
4. Aranda Serna F.J. Social and Legal Risks of Sharenting when Forming a Child’s Digital Identity in Social Networks // Journal of Digital Technologies and Law. – 2024. – Т. 2, № 2. – С. 394-407.
-
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» // Российская газета. № 262. 20.11.2017.
-
6. «Я не отстану!». Инстасамка снова поругалась с семьей блогера Кукояки из-за его дочери. 20.05.2025. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.m24.ru/articles/shou-biznes/20052025/798641?utm_source=CopyBuf .
-
7. Ministero dell'interno decreto. 29 febbraio 2024. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/04/24A01716/SG .
-
8. Decreto legislative. 25 luglio 1998, № 286. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg .
-
9. What is the Japanese «Digital Nomad» Visa? Exclusive Support Plans with Japanese Lessons Offered by Trust Administrative Scrivener Office. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.trust-gyosei.com/japanese-digital-nomad-visa-about/ .
-
10. Nomad Residence Permit. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nomad.residencymalta.gov.mt/new-faqs/ .
Можно заключить, что распространение в зарубежной практике института «цифрового кочевничества» позволяет определенной категории иностранцев, работающих самостоя- тельно и удаленно, оперативно получить визу, ВНЖ и, в большинстве случаев, в дальнейшем ПМЖ и гражданство, в том числе цифровое (хотя и изначально предоставляется определенный спектр прав в цифровой реальности, поскольку взаимодействие с органами публичной власти происходит именно на цифровых платформах, оказывается должный уровень помощи для совершенствования цифрового мышления и повышения правовой культуры цифровых граждан). Отметим, что с учетом национальных интересов РФ на данном этапе, изменений в вопросы гражданства РФ, модель «цифрового кочевничества» для нашего государства не представляется приемлемой. Вопросы «цифрового кочевничества» интересны лишь для демонстрации усиления влияния цифровизации и института цифрового гражданства в мире.
В свою очередь, проанализированное ранее развитие правовой культуры цифровых граждан в РФ, цифровые конфиденциальность и идентичность граждан, выявленные проблемы отражают необходимость дальнейшей проработки феномена цифрового гражданства.