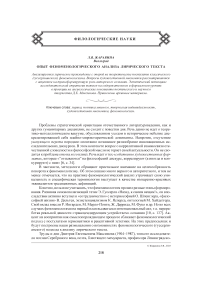Опыт феноменологического анализа лирического текста
Автор: Жаравина Л.В.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 10 (203), 2025 года.
Бесплатный доступ
Анализируется лирическое произведение с опорой на теоретические постулаты классического (гуссерлианского) феноменологизма. Вопросы художественной мнемоники рассматриваются с акцентом на трансформирующую роль авторского сознания. Эстетический потенциал исследовательской стратегии выявлен на содержательном и формальном уровнях в проекции на аксиологические константы поэтического и научного творчества Д.Е. Максимова. Привлечены архивные материалы.
Лирика, поэтика мнимого, творческая индивидуальность, художественная мнемоника, феноменологизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148332481
IDR: 148332481
Текст научной статьи Опыт феноменологического анализа лирического текста
В частности, методологи обращают пристальное внимание на целесообразность поворота к феноменологизму. Об этом сказано много верного и авторитетного, и тем не менее отмечается, что на практике феноменологический анализ утрачивает свою уникальность и специфическая терминология выступает в качестве изощренно-красивых эквивалентов традиционных дефиниций.
Конечно, нельзя не учитывать, что феноменологизм прошел разные этапы формирования. Развивая основополагающий тезис Э. Гуссерля «Назад, к самим вещам!», он впоследствии активно вступил в «сотрудничество» с историософией О. Шпенглера, «философией жизни» В. Дильтея, экзистенциализмом К. Ясперса, онтологией М. Хайдеггера. Свой вклад внесли Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, Ж. Деррида, М. Фуко и др. Но во всех случаях феноменологами на первый план выдвигался интенциональный акт, т.е. переработка реальной данности «трансцендирующим устройством» сознания [10, с. 137]. Акцент на восприятии как смыслопорождающем процессе сближает феноменологический подход с постулатами герменевтики и рецептивной эстетики. На этих предпосылках и будут построены наши размышления о возможностях феноменологического (гуссерли-анского) подхода к анализу лирического текста.
Труды и дни Дмитрия Евгеньевича Максимова (1904–1987), тонкого исследователя поэзии Серебряного века, поэта, блестящего мемуариста, профессора Ленинградско-
го / Петербургского университета – адекватное подтверждение плодотворности единства гнозиса – логоса – поэзиса , научного и художественного со -творчества. Но если результаты ученых штудий и педагогический профессионализм руководителя знаменитого Блоковского семинара высоко оценивались филологическим сообществом, то о его поэтических опытах знал весьма ограниченный круг «посвященных»: друзей-единомышленников, пользующихся доверием учеников, некоторых коллег и, как ни парадоксально, зарубежных читателей.
К сожалению, получилось так, что на Западе Максимов-поэт стал известен десятилетием раньше, чем в России. Однако и эта небольшая поэтическая книжечка, вышедшая в начале 1980-х гг. в одном из лозаннских издательств, скрывала его истинное имя под псевдонимом Игнатий Карамов, позднее замененным на Ивана Игнатова. И только в 1994 году после издания стихов Языковым центром филологического факультета Санкт-Петербургского университета (серия «Наследие ученых») стала очевидна поэтическая ипостась авторитетного филолога. Своими стихами Д.Е. Максимов, по его утверждению, «с большими и малыми перерывами» вел «разговор с собой», убеждаясь в мысли, что лирика «есть форма внутреннего бескорыстного самоутверждения» [3; 9, с. 25; 12; 13; 15].
Дмитрий Максимов (Игнатий Карамов, Иван Игнатов) – поэт петербургско-ленинградский, объединивший классическую традицию русского стиха с авангардизмом XX века, что предполагает, помимо прочего, обращение к новейшим аналитическим стратегиям, в частности к феноменологической практике.
В разделе поэтического сборника «Семидесятые и восьмидесятые годы» выделяется триптих: «Тень друга», «Явление отца», «Явление матери». Все три произведения связаны темой памяти о близких и родных людях, ушедших в небытие.
Обратимся к стихотворению «Явление отца»:
Отец пришел из гроба
И сел у шкафа на дальний стул
(потертый, венский?).
Он, кажется, не очень изменился,
Лишь голова состарилась в веках
(такое говорят про них нередко).
И он смотрел неизъяснимо, своим Вниманьем переполняя мое жилье.
Я так любил, так ждал его. В людском безлюдьи
Мне ласки нечеловеческой хотелось.
Я так прилежно изучал тропинки,
Ведущие к нему
(они протягивались по коридору и поворачивали на площадку, где память в черноте сгущалась, но иногда, в бессонницу, меняли направленье).
И был он как Молчанье, как Присутствие, как Мука безмерно-сладостная и, может быть, Прощенье.
Я потянулся к нему,
Но он, смущенный, зашевелился вдруг,
Как будто жалея и стыдясь чего-то,
И прошептал с трудом:
“Нет…сын мой бедный…”
Я в горе не расслышал продолженья и долго
Стоял, пока он длился, т.е. испарялся…
О, люди добрые… [9, с. 96–97].
Ученый, представивший великолепные образцы анализа поэтических текстов М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, В.Я. Брюсова, Андрея Белого и др., уделял много внимания вопросам теории и методологии. В частности, у него была теория «двух встреч» с художественным произведением. Первая «встреча» – «наивная», «встреча наедине». В ней отсутствуют какое-либо «придумывание» и предвзятость, но есть желание «синтетически» охватить художественное целое. Второй контакт («встреча») предполагает аналитическое прочтение: «установление связей текста с другими текстами, с жизнью, с мировоззрением». И, хотя должен следовать третий «акт», возвращающий к первому и с высоты обретенного знания корректирующий его, мысль о ценности непосредственной рецепции и необходимости доверия к читательскому восприятию постоянно присутствует в размышлениях ученого: «<…> изучающий поэзию не отличается от простого читателя принципиально. Нам нет оснований не доверять читательскому синтезу, потому, что он есть и наш синтез» [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 2. Д. 239. Л. 16. Л. 14].
Читая вышеприведенные стихотворные строки, непредубежденный «наивный» читатель, наверное, прежде всего, обратит внимание на те параметры лирического произведения, которые не характерны для классического стиха: сбивчивый ритм, образную «клочковатость», интонационную неуверенность, недосказанность, наплыв негативнолексических форм (безлюдье, нечеловеческая ласка, бессонница, коридорная чернота, лестничная площадка), Мука с большой буквы. Наряду с ними – Молчание и Прощенье (тоже с большой буквы). Смысловая перенасыщенность и образная неупорядоченность поддерживаются визуально-графической разорванностью.
В 1966 году Д.Е. Максимов написал «письмо» А.А. Ахматовой «на тот свет», в котором воспроизвел знаковый для него эпизод: «Помните: в Вашей небольшой, какой-то безбытной комнате на Петроградской стороне я читал Вам в первый и в последний раз свои стихи <…> “Властно и самобытно”, – сказали Вы тогда о моих стихах. И после небольшой паузы, где-то посредине, между этим приговором и заключительным энергичным поздравлением, прозвучала прямая и откровенная фраза, уточнявшая эту оценку и, видимо, не изменявшая ее сути: “А знаете – неприятные стихи”» [9, с. 32].
Согласимся: приведенные вышепоэтические строки мало приспособлены для услаждения слуха и действительно производят тяжелое впечатление. Однако профессионал-литературовед, признавая ценность читательской рецепции, не вправе ограничиться ею. Художественный текст нуждается в определенном контексте, вписанном в историко-литературную ретроспективу и, насколько возможно, перспективу.
В данном случае и то, и другое весьма значимы. В далекой ретроспекции и опосредованно – это отразившиеся в мифологии ритуальные практики поминальных обрядов с приглашением предков; средневековые видения; европейская готика с присутствием таинственных посетителей, вестников инобытия, гробовых призраков, фантомов и пр. образных эквивалентов «пограничных» и измененных состояний сознания. В ближайшем хронотопологическом измерении актуализируются «Видения мурзы» Г.Р. Державина, «Видение на берегах Леты» К.Н. Батюшкова, «кладбищенские» элегии В.А. Жуковского, конечно, пушкинские «виденья» и онейрические образы. Большой контекст, считал Д.Е. Максимов, своей широтой «как бы» обосновывает «правоту частного переживания автора» [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 2. Д. 220. Л. 8].
Однако обратим внимание: в высказывании содержится оттенок условности («как бы»), что одновременно подтверждает мысль о необходимости расширения ассоциативно-смыслового поля и констатирует ценность художественного факта perse (самого по себе). И действительно, возведение конкретики к типовым моделям и ставка на интертекстуальную составляющую (аллюзии, реминисценции и пр.) не всегда уместны, т.к. могут утяжелить и обезличить анализируемый текст, придать «частному переживанию» общетиповой характер, лица общее выражение .
Именно поэтому нам представляется адекватным феноменологический подход к тексту, с которым соотносится поэтический хрономираж: прошлое как со -путствие настоящего, как со -бытие, нечто сосуществующее наряду с бытием. Образы друга, матери, отца, «явившихся» оттуда, могут быть репрезентантами подсознания или порождением защитных функций психики, своеобразным пси -фактором, ведущим в глубины парапсихологии и пр. Но в любом случае – это феномены в строго этимологическом значении слова.
Не вдаваясь в спекулятивные тонкости (в которые, кстати, Д.Е. Максимов не входил без особой нужды), докажем данный тезис на примере стихотворения «Заклинание» А.С. Пушкина, на взгляд историка литературы, далекого от проблем феноменологизма. Тем не менее мы считаем, что в нем отчасти реализована феноменологическая ситуация, в основе которой лежит рефлексия по поводу события (факта) и его наполненности реальным содержанием, аналогичная взаимодействию понятий казаться ( восприниматься ) и быть как равнозначных, хотя и разноприродных начал.
Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальняя звезда,
Как легкой звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье <…> [11, с. 193].
С одной стороны, явис ь, приди , с другой – была . Была «перед разлукой <…> как зимний день» – миметически ясное сравнение. Приди , как «дальняя звезда», «легкий звук иль дуновенье, иль как ужасное виденье», – здесь визуально-семантическая чувственность выходит за собственные границы в иноприродное измерение. «Мы создаем для себя образы фактов», – отмечал В.В. Налимов [10, с. 155].
«Образ факта» и факт могут быть по-пушкински одновременно дифференцированы и объединены, но интенциональность, т.е. преобразующая роль сознания в его направленности на предметы реального мира – основа художественной мнемоники. Кстати, отметим, что Данил Хармс, высоко ценимый Д.Е. Максимовым, назвал свой сборник разножанровых текстов, где автобиографический и квазибиографический моменты выступают в единстве – «О явлениях и существованиях» (1929–1939).
В пушкинском стихотворении черта подводится заключительным строками, отбрасывающими сомнения в реальности не только переживания, но и возможности появления самого предмета любовной страсти:
Мне все равно, сюда! сюда!..
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда! [11, с. 193].
Говоря языком феноменологии, конкретный объект при всей погруже нности в ассоциативно-смысловую ретроспекцию, существует здесь и сейчас ( hicetnunc ).
В свете вышесказанного необходимо отметить глубокий и постоянный интерес, который Д.Е. Максимов испытывал к творчеству П.А. Флоренского. Причем целесообразно сослаться не на знаменитый труд «Столп и утверждение Истины», а на гораздо менее популярную работу «Мнимости в геометрии» (полное название – «Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии», 1922). Эта книга, над которой ученый работал в течение двух десятилетий, была заявлена им как его отклик на 600-летний юбилей кончины Данте.
Трактат не только предваряет дальнейшие разыскания Флоренского в области теоретической спатиологии, но и непосредственным образом проецируется на художественную хронотопологию. Более того, общее направление исследования не исчер- пывается рассмотрением двухмерных явлений в геометрии и, выходя за пределы пространственной проблематики, касается вопросов смыслополагания в том значении, какое придается понятиям виртуал и визуализация в наше время.
В сочинении один из акцентов сделан на логическом парадоксе: несмотря на то, что мнимые образы лишены наглядности и потому не имеют «конкретно-воззрительно-го содержания», их смысл очевиден [14, с. 10]. В итоге формируется некая метареальность, в пространстве которой мнимости обретают видимые и четко обозначенные параметры, что для Флоренского являлось основой разграничения мнимого и нереального.
В этом отношении стихотворение «Явление отца» соотносимо с рассуждениями Флоренского об альтернативном пространстве, идея «человекосоразмерности» которого давно и прочно усвоена литературной традицией. Что же касается теории мнимостей, то феноменологически дополненная она вносит некоторые специфические нюансы и в истолкование художественной образности как на содержательном, так и формальном уровнях.
«Существует несколько способов подойти к мнимостям», – утверждал философ [Там же, с. 6]. И в свете изложенного очевидно: Иван Игнатов (Иван Карамов) – не просто творческий псевдоним Д.Е. Максимова или ролевой исполнитель, автор-маска, но квинтэссенция известного ученого и вузовского профессора.
Менее всего, особенно в силу интонационно-ритмической организации, анализируемое стихотворение напоминает молитву. Однако в нем ощутима скрытая «молитвен-ность образов», о которой писал И.А. Ильин применительно к русскому классическому искусству: «Духовный опыт не всегда имеет внешнюю “форму” молитвы; но по существу своему он всегда подобен молитве » [4, с. 350]. По сути, в основе события, отраженного в процитированном поэтическом тексте, также лежит молитвенный опыт, вопрошание о смысле бытия, порожденное состоянием экзистенциальной озабоченности. И хотя ясно, что «явление» отца стало возможным лишь в результате напряженного духовного самособирания, мотивно-образная конструкция составлена из разноприродных деталей предметно-вещного и умозрительного наполнения.
Отец «пришел из гроба» и «сел у шкафа на дальний стул»; стул «потертый» и, кажется, венский; «голова состарилась», но так и должно быть. Мысленный путь к отцу предстает не как порыв к Истине, но как блуждание по тропинкам-коридорам петербургского многоквартирного дома с «чернотой» лестничных площадок. Все обыденно, зримо, телесно, даже грубовато-чувственно. Поистине: «Назад, к самим вещам!»
Но далее идет процесс развоплощения: отец «смотрел неизъяснимо», переполнял «своим Вниманием» жилье; он был «как Молчание, как Присутствие, как Мука безмерно-сладкая и, может быть, Прощенье». И хотя оба лирических персонажа, отец и сын, прибегают к жестикуляции («я потянулся к нему», «он, смущенный, зашевелился вдруг»), видение исчезает: «Я <…> / Cтоял, пока он длился, т.е. испарялся…». Робкий шепот уходящего отца: « нет… сын мой бедный… » и авторское восклицание: «О, люди добрые…» бессильны реанимировать ускользающую предметность. А пролонгированный акт ускользания, графически подтвержденный многоточиями, предполагает бесконечность смыслового наполнения.
В итоге в стихотворении Максимова-Игнатова воссоздается многообъемная метареальность, переводящая феномены мнимого в истинное, и сделано это с использованием нетрадиционных видов поэтической образности. В этом плане обращает на себя внимание метабола , определяемая теоретиками постмодернизма как троп или «поэтический образ, в котором нет раздвоения на “реальное” и “иллюзорное”, “прямое” и “переносное”, но есть непрерывность перехода от одного к другому, их подлинная взаимо-причастность» [16, с. 166].
Вопрос о близости поэзии Д.Е. Максимова к эстетике постмодернизма еще не был предметом специального изучения, тем не менее стихотворение «Явление отца», демон- стрирующее «взаимопричастность» реального и ноуменального миров, абсолютно ме-таболично. Причем метаболично по смысловым, пространственным и темпоральным измерениям.
П.А. Флоренский говорил о равнозначности мнимых и реальных плоскостей бытия: оттуда – сюда. Но это означает аналогичную равнозначность и темпоральных параметров тогда – сейчас , поскольку теория мнимостей свидетельствует о четырехмерности пространственно-временного континуума. С феноменологической точки зрения воспроизвести переживание какого-либо события означает описать процесс его освоения «внутренним сознанием времени» [2].
И действительно, появление отца и его уход, т.е. ситуативные начало и конец даются поэтом во временной последовательности, которая является отражением различных фаз единой эмоционально-логической динамики. Причем, заметим: начальная фаза процессуальна; последующие представлены в постепенно замедляющемся ракурсе. Гус-серлианец в подобных случаях обращается к понятию ретенция , означающему способность сознания удерживать некогда зародившееся первоначальное впечатление как пришедшее только что [5, c. 28–35]. Конечно, «внутреннее сознание времени» направлено на удержание значимого мгновения, способного растянуться синхронно «растяжению» души, переносящей прошлое в настоящее. В результате и образуется четырехмерный континуум, который передается автором стихотворения через «игру» глагольными формами.
Так, изначально заявленная предметно-пространственная суггестивность (гроб, шкаф, стул, коридоры и пр.) сопрягается с глаголами прошедшего времени совершенного вида: «пришел из гроба», «сел у шкафа», «не очень изменился», «голова состарилась». Но далее, когда телесно-материальная конкретика редуцируется, глаголы утрачивают четкую зафиксированность на единичном и свершившемся действии. Сначала это касается сына, лирического героя, alter ego автора («Я так любил, так ждал его», «ласки хотелось», «прилежно изучал»), а потом и отца, растворяющегося в инобытии: «смотрел неизъяснимо, своим / Вниманьем переполняя…». На следующем этапе телесножестовая конкретика устраняется абстрактными обозначениями: «Молчанье», «Присутствие», «Мука», «Прощенье». В итоге первая, «быстрая», стадия восприятия с элементами монтажа переходит в стадию глубокой медитации. Заключительная же вокативная фраза не только не закончена, но и неизреченна: «О, люди добрые…» Образно-смысловая полифония поддерживается ритмической.
Рассмотренные параметры лирического текста, на наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствуют о возможности рассмотрения художественной интенциональности в свете идей феноменологизма, что, конечно, не отрицает правомочности других подходов, в том числе и традиционных. Более того, сам феномен художественности предполагает комплексную исследовательскую стратегию. Однако, исходя из характеристики литературного явления из любого отдельно взятого философского постулата или идеологемы, важно не упустить главное: творчеcкую индивидуальность. «Я убежден, – писал Д.Е. Максимов в книге о Брюсове, – что проникнуть в глубину лирического творчества, закрывая глаза на личность поэта, невозможно. Личность есть причина поэзии и, как всякая причина, присутствует и активно живет в том, что она вызвала к жизни» [7, с. 6–7].
Доминантой же творческих устремлений Дмитрия Евгеньевича Максимова, интегратором его поэтического и научного творчества был феномен памяти. «Крупинки памяти, я не отдам вас даром»; «Я в память памяти спою пустую песню, / Чтоб шепот памяти еще услышать мне…»; «Последней памяти я сберегу глоток…», – читаем в другом стихотворении [9, с. 103]. Да и весь триптих – «Тень друга», «Явление отца», «Явление матери» – не что иное, как апелляция к памяти.
Э. Гуссерль отождествлял мнемический процесс с темпоральностью сознания и, как отмечено, рассматривал память в ракурсе ретенции. Отсюда апология понятия Теперь (с большой буквы), которое в различных модификациях изобилует на страницах трактата «Феноменология внутреннего сознания времени». Подлинным, «чистым» феноменологическим временем, по утверждению философа, является только настоящее время. «Каждое ощущение, – утверждал он, – имеет свои интенции, которые ведут от Теперь к новому Теперь и т.д. » [2, с. 118]. «Новое Теперь», «актуальное Теперь», «точечное Теперь», «предшествующее Теперь», «только что прошедшее Теперь», «Теперь-явление», «Теперь-точка» – все это ключевые узлы феноменологической мнемоники.
Для Д.Е. Максимова память о прошлом – это не сиюминутные ( здесь и сейчас ) переживания минувшего, но основа личностного и творческого самоопределения, уходящая в глубины выстраданного духовного опыта. «Человек для Блока – это Помнящий, органически связанный с миром, поскольку это единение с миром “без памяти” невозможно», – читаем в книге о Блоке [8, с. 119].
В аналогичном ракурсе писал о мире, людях, любви, долге, человеческой боли поэт Дмитрий Максимов (Иван Игнатов):
Вы, стоящие навеки в дверях.
Пришедшие сюда,
Прошедшие мимо,
Сущие и приснившиеся.
Живые и выходцы.
Незабвенные и другие.
Вы – в сердце моем, в сердце моем, в моем сердце.
Аминь [8, с. 98–99].
Конечно же, никакое Теперь (тем более теперь ) не способно исчерпать существа поэзии, за которую, как Д.Е. Максимов подчеркивал в своих лекциях, «следует вести борьбу», помня, что это «один из путей борьбы за челов<еческую> душу, – за ее человечность» [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 2. Д. 239. Л. 3]. В этой борьбе память о прошлом бесценна.
Отсюда пронзительно-трогательные стихи, видимо, написанные не в самые благополучные минуты жизни:
Подушки. Порошки без толка…
И вдруг… Иль это Бог принес?
Неизъяснимый запах елки.
Знакомый до последних слез [9, с. 80].
«Неизъяснимый запах елки» из этого, казалось бы, простенького четверостишия и неизъяснимый взгляд отца («смотрел неизъяснимо») из отягощенного грузом ассоциаций сложного лирического текста – явления однопорядковые, выходящие в область религиозной апофатики, которая не поддается феноменологическому измерению да и не нуждается в нем.
В Отеле рукописей Российской национальной библиотеки хранится неопубликованный фрагмент отзыва Д.Е. Максимова о поэтическом сборнике Сергея Стратанов-ского «В страхе и трепете», датируемый 1981 годом. С.Г. Стратановский – один из наиболее значительных поэтов современности, но для Дмитрия Евгеньевича он, прежде всего, был близким по духу учеником, носителем петербургской культуры, продолжателем традиций Н. Заболоцкого, Н. Олейникова, В. Хлебникова, имеющим «нечто филоновское». Отдавая должное такому родству, Д.Е. Максимов замечает, что стихи Стратановского трагичней, «ущербней»: в них «острая человеческая боль» без позы.
И в то же время рецензент пишет о «злой поэтике», в которую может превратиться «темное зрение» поэта: «Нет прямой любви к миру, к природе, к вещам, к женщине. Жаль!!!» [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 3. Д. 35. Л. 1]. «Поэт изображает не просто тоску, а поэзию тоски», – говорится в другом месте [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 3. Д. 220. Л. 9]. Иными словами, «поэтизирующий стиль» есть стиль трансформирующий и в конечном счете преображающий действительность в позитивном ключе, поэтому лирика, «даже наиболее непримиримая, в конечном счете является жизнеутверждением» [ОР РНБ. Ф. 1136. Оп. 3. Д. 35. Л. 15]. Глубочайший путеводный смысл Д.Е. Максимов придавал двустишию Иннокентия Анненского: «А если грязь и низость – только мука / По где-то там сияющей красе…» [1, с. 103].
«<…> Искусство по самой своей природе выходит из себя», – считал ученый [6, с. 7]. И чем значительнее художественный феномен, тем выше его всеохватывающая и всепроникающая способность. Безусловно, благодатным источником триединства гнозис – логос – поэзис , реализованного в поэтическом творчестве, научной и педагогической деятельности Дмитрия Евгеньевича Максимова, явилась его многоипостас-ная личность.
Что же касается самого феноменологического подхода к анализу художественного материала, то он в ограниченных пределах (как, впрочем, и любая другая локальная исследовательская стратегия) вполне приемлем и продуктивен.