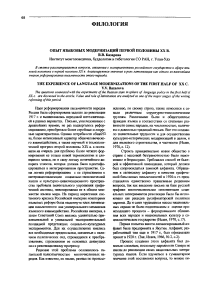Опыт языковых модернизаций первой половины XX в
Автор: Базарова Валентина Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 8, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с экспериментами российского государства в сфере языковой политики в первой половине XX в. Анализируются значение и роль латинизации как одного из важнейших этапов реформирования письменности этого периода.
Короткий адрес: https://sciup.org/148178431
IDR: 148178431
Текст краткого сообщения Опыт языковых модернизаций первой половины XX в
Идея реформирования письменности народов России была сформирована задолго до революции 1917 г. и вынашивалась передовой интеллигенцией в разных вариантах. Письмо, унаследованное с древнейших времен, не раз подвергалось реформированию, приобретало более стройные и логичные характеристики. Однако потребности общест! ва, более интенсивный характер общечеловеческого взаимодействия, а также научный и технологический прогресс второй половины XIX в. а поставили на очередь дня проблему более четкого формирования не только новой терминологии и словарного запаса, но и саму логику понятийного аппарата этносов, которая должна была идентифицироваться в интегрированном пространстве. Сама логика реформирования с ее стремлением к интернационализации социально-экономической жизни и культурно-цивилизационного пространства требовала значительного упрощения графической системы, нивелирования ее в общем множестве языков мира. На период нарастания системного кризиса Российской империи новаторами языковых реформ была выдвинута идея латинизации письменности как универсального механизма языкового взаимодействия. Российская империя, а затем Советский Союз явились удивительно привлекательной и уникальной экспериментальной площадкой предстоящих социально-культурных экспериментов. Для их осуществления имелись все необходимые предпосылки, связанные с наличием политических сил, стремящихся к преобразованиям, стремлением ее основных движущих сил к революционному прогрессу.
Решение этой проблемы осложнялось гигантской полиэтничностью многочисленных народов. Как известно, их языки, разные по происхо ждению, по своему строю, также относятся к самым различным структурно-типологическим группам. Различными были и общественные функции языков в соответствии со степенью развитости самих народов, их численностью, наличием и давностью традиций письма. Все это создавало значительные трудности и для осуществления культурно-исторических модернизаций в целом, и для языкового строительства, в частности (Исаев, 1970, с. 12).
Строить принципиально новое общество в стране с массовой безграмотностью было невозможно и безрассудно. Требовался способ ее быстрой и эффективной ликвидации, который должен был сопровождаться заменой алфавита. Обращение к латинскому алфавиту в качестве графической базы новых письменностей в 1920-х гг. представлялось единственно правильным решением вопроса, так как введение письма на базе русской графики многочисленными оппонентами социальных экспериментов революции было бы истолковано как рецидив русификаторской политики царизма. Да и сами трудящиеся массы национальных окраин не были подготовлены к оценке происходящего процесса - форсированного сближения всех народов и национальных культур в социалистическом государстве (Исаев, 1970, с.17).
Первая попытка ввести латинизированный алфавит была предпринята в Якутии. Алфавит, разработанный там еще в 1917 г, был официально принят в 1920 г. (Зак, Исаев, 1966, № 2, с.2).
Процесс создания этого алфавита был довольно сложным, поскольку народности Севера не имели до революции своих национальных литературных языков. Если вдуматься в гуманитарное значение этой постановки вопроса, то можно по- нять тубнну и масштаб устремлений и целей революционных преобразований в сфере культурной жизни. Многое из новых установок не было понятно местной интеллигенции, хорошо ориентировавшейся в местных реальностях и оттого имевшей свои обоснованные предубеждения. Отдельные деятели просвещения предлагали в Архангельской губернии и на Урале просто усилить изучение русского языка, а специальной письменности для Севера вообще не создавать. При этом они ссылались на «дикость и малочисленность его народов» (Исаев, 1970, с. 16).
Не удалась попытка создать литературные языки для всех народов Севера на базе единого для них алфавита, не учитывающего специфики фонологических систем отдельных языков. Несомненно, ошибочен был переход на латинскую графику письменностей тех народов, у которых уже существовало письмо на основе русской графики (коми, удмурты, осетины, чуваши, мордва, якуты и др.).
Вначале 1920-х гг. активно формулируется теоретическая основа идеи латинизации арабского алфавита, поддержанная официальными государственными органами и вызванная «требованиями и нуждами нового строя». Именно тогда появилось название нового алфавита -«детище Октября». Активный идеолог латинизации, председатель Азербайджанского ЦИКа С. Агамалы-Оглы, так говорил о влиянии Октября на развитие этого движения: «Периодически вопрос о новом алфавите в тюрко-татарских странах не раз возникал, но никогда не получал не толью практического осуществления, но даже теоретически был раньше мало еще разрабо-тан...»(Агамалы-Оглы, 1927, с. 85).
Первой тюркской республикой, официально поддержавшей латинизацию, стал Азербайджан. 21 июля 1921 г. (а в некоторых источниках это событие датируется 1922 г.) в Азербайджане под руководством Председателя Азербайджанского ЦИКа С, Агамалы-Оглы был учрежден Комитет по принятию Нового Тюркского Алфавита (НТА). Этот Комитет поставил перед собой задачу перевода алфавита тюркских народов на латинскую графику во всесоюзном масштабе. По этому поводу в августе 1922 г. С. Агамалы-Оглы встречался с В.И. Лениным. В ходе беседы были обсуждены мероприятия по переходу на новый алфавит. С. Агамалы-Оглы успешно использовал непререкаемый авторитет В.И. Ленина. В своих многочисленных публикациях и выступлениях он неоднократно повторял якобы произнесенную В.И. Лениным сакраментальную фразу: «Латинизация - это великая революция для Востока» (Хансуваров, 1932,с.21).
Почти одновременно вопрос о переводе на латинский алфавит возник и в других национальных районах России: в Карачае, Ингушетии, Балкарии, Кабарде, Северной Осетии, Чечне, Адыгее, Башкирии, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Крыму. Повсеместно учреждались Комитеты Нового Алфавита.
Движение за смену алфавита приняло общесоюзный характер, многие национальные республики становились очагами борьбы с новым движением, вопрос латинизации письменности стал приобретать ярко выраженный политический характер - из плоскости языка и культуры постепенно перешел в сферу государственной политики.
В 1924 г. на повестку дня вновь был поставлен вопрос о проведении Всесоюзного съезда для обсуждения проблем, связанных с культурами тюркских народов. Эта тенденция получила большую поддержку со стороны государственной власти, видевшей в переводе алфавита на латинскую графику мощнейшее средство интернационализации национальных культур. Вопрос о созыве съезда всерьез обсуждался в ученых кругах Москвы, во Всесоюзной научной ассоциации Востоковедения. В 1924 г. там была организована специальная комиссия по подготовке к Тюркологическому съезду под председательством академика А.Н. Самойловича. Инициативу по созыву съезда взяла на себя Азербайджанская республика в лице «Общества исследования и изучения Азербайджана» (Ага-заде, Каракашлы, 1928, с. 34).
Съезд проходил в Баку во дворце Тюркской Культуры с 26 февраля по 6 марта 1926 г. В работе съезда приняло участие 111 человек, представлявших научные и общественные организации всех советских тюркских республик и автономных областей. В числе делегатов были и 20 иностранных представителей из Турции, Германии, Венгрии, для которых проблема перехода на новый алфавит также являлась актуальной. Из многочисленных тюркских народов СССР на съезде были представлены почта все крупные и мелкие народности от «чуваш до ойратов и якутов, от поволжских татар до анатолийских турок» (Веста. Науч. Общества Татароведения (ВНОТ), 1926, № 5, с.4).
Наряду с обсуждением проблем нового алфавита на съезде поднимались вопросы изучения истории, этнографии, литературы, языка и орфографии тюркских народов. Однако, наиболее горячие споры участников съезда вызвало обсуждение алфавитного вопроса. На эту тему были сделаны доклады Л.В. Щербы, Л.И. Жиркова, НФ. Яковлева, Г. Ибрагимова, Г. Шарафа, Ф.' Ага-Заде, Ш. Рахями, Д. Мамадзаде, Г. Алпарова, Н. Тюрякуло-ва, Г. Галиева и др. (Стенограф, отчет, 1926, с.154).
На съезде вновь выявились определенные разногласия в позициях различных представителей. Так, московские и азербайджанские представители в категоричной форме высказывались за немедленное принятии нового алфавита во всех тюркских регионах СССР В отличие от них, например делегаты, представлявшие Татарстан, были более осторожными.
Г. Шараф, один из ярких представителей арабистов - защитников древней арабской письменности, неоднократно горячо выступал против введения нового алфавита. В своем докладе «Вопросы использования у татар и тюркских народов системы арабских и латинских букв» он отметил: «... вопрос о замене шрифта в культурно-экономическом и общественном отношении имеет громадное значение, в особенности для народностей, имеющих значительные культурные достижения в прошлом и настоящем, как турки Турции, казанские татары, азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы и другие. Замена шрифта в этих условиях связана: с переучиванием новой грамоте всех грамотных по прежней письменности, с необходимостью на ряд лег введения параллельного издагель-ства, обучения грамоте, создания навыков чтения и письма одновременно по двум письменностям, это потребует практической и методической переподготовки учителей, переоборудования типографий ... и других технических и практических проявлений в культурной жизни, а главное, потребуется, в особенности в первые периоды, создание громадного перелома в общественном настроении широких масс населения данной народности. Чем выше данная народность в культурном отношении, тем будет труднее провести такую перемену шрифта, не только с экономической стороны, но и общественной» (Стенограф, отчет, 1926, с.242, 248, 84).
Г. Шараф призывал подойти к вопросу о перемене алфавита с «сознанием полной ответственности, взвесив все реальные положительные и отрицательные стороны данной перемены» (Стенограф. отчет, 1926, с.242). Сравнивая арабскую и латинскую системы шрифтов, выясняя насколько каждый из них подходит для обозначения слов тюркских языков, он пришел к выводу, что «арабские буквы для чтения и письма намного удобнее, чем латинские... Переход тюркских народов с арабской азбуки, используемой ими в настоящее время, на латиницу в действительности низвергнет эти народы до уровня тех народов, которые не имеют своей азбуки...» (Стенограф, отчет, 1926, с.257).
Проводя политический анализ возможных результатов решения алфавитного вопроса на пути латинизации, Г. Шараф утверждал, что введение нового алфавита встретит резкое неприятие крестьянства, составляющего почти 90 % населения. «Насколько имеются реальные выгоды, - спрашивал он сторонников нового алфавита, от нововведения, и как скоро эти выгоды станут ощутимы для крестьянства? »(Вести. Науч. Общества Татароведения (ВНОТ), 1926, № 5, с.79).
Опровергая тем самым заявления многих латинистов о доброжелательном отношении отсталых в культурно-экономическом плане крестьян к новому алфавиту, он прямо заявлял, что глубинная цель латинизации арабского шрифта есть не что иное, как русификация. По его мнению, «перемена арабского шрифта на латинский не только не послужит культурно-экономическому подъему, но на ряд лет задержит наше культурно-экономическое развитие вперед» (ВНОТ), 1926, № 5, с.80).
Единственный выход Г. Шараф видел в дальнейшей работе над усовершенствованием арабского шрифта.
Выступление руководителей татарской делегации Г. Ибрагимова было более умеренным. Проявляя дипломатичность, он заявил: «...у нас мнение такое, что принципиальных возражений против латыни не имеем» (Стенограф, отчет, 1926, с. 177).
Одновременно Г. Ибрагимов защищал и арабский алфавит, утверждая, что он является одним из неотъемлемых элементов татарской культуры, имеющих давнюю историю. Основная трудность решения алфавитного вопроса в Татарской Республике заключалась, по его мнению, в более по-лутысячелетнем существовании в регионе литературы и 125-летней истории книгопечатания на арабском шрифте, а также работе по реформированию арабского письма, проделанной за последние 50 лет. От отмечал, что за последние 25 лет XX в. были достигнуты большие достижения в этой области, выразившиеся в значительном облегчении арабского письма, приспособлении его к татарскому языку, в связи с чем алфавит стал более удобным для обучения и печати. Г. Ибрагимов утверждал, что новый алфавит можно принять только при условии перевода всего письменного наследия татар на латинскую графику и предупреждал, что в противном случае оборвется связь татарского народа с культурой прошлого.
На съезде с докладами в поддержку реформирования арабского алфавита выступили и другие члены татарской делегации: Н. Хаким, А. Саади, С. Гафуров. Лишь татарский языковед Г. Алпаров, принявший активное участие в реформировании алфавита и орфографии, не примкнул ни к одной из сторон. В связи с позицией татарской делегации С. Агамалы-Оглы в своей брошюре «В защиту нового тюркского алфавита», опубликованной вскоре после съезда, назвал Г. Шарафа и Г Ибрагимова «людьми, выражающими настроение старого исламского мира» (Агамалы-Оглы, 1927, с. 104).
Призывы к умеренности и осмотрительности при ликвидации арабской графики и осуществлении массового перехода на латиницу, исходившие от ряда ученых и общественных деятелей, на съезде не были услышаны. Сторонники нового алфавита в своих выступлениях заявляли, что с введением нового латинского алфавита в корне разрешатся все вопросы орфографии.
В результате работы тюркологического съезда была приюта резолюция, констатирующая преимущества нового латинизированного алфавита, введение которого объявлялось важнейшим делом каждой порккой республики. В качестве положи-тельного опыта осуществления латинизации в пример ставился Азербайджан и некоторые другие республики. Из орфографических принципов, отвечающих своеобразию тюркских языков, самым приемлемым признавался фонетический принцип.
На Бакинском съезде был создан Центральный Комитет Нового Тюркского Алфавита. Мероприятия подобного характера стали проводиться во всех национальных регионах СССР. Комитет проделал большую и сложную работу по латинизации алфавитов народов с арабской письменностью, а также по созданию новой письменности на основе латинской графики у многих народов Советской России.
В деле модернизации письменности и формирования нового языкового ландшафта страны сыг7 ради свою роль и устремление руководящей элиты государства, и мобилизованные силы национальной интеллигенции центра и этнических регионов, локализованных в соответствующих научных центрах и общественных организациях.
В реформировании бурят-монгольской письменности видную роль сыграли научные и общественные организации - Бурятский ученый комитет (Буручком), общество им. Д.Банзарова, а также партийные организации и правительственные учреждения. Реформа бурят-монгольской письменности осуществлялась при сочетании научной проработки и оценке вопроса со значительным административным ресурсом. Однако первый этап согласования реформы не принес ожидаемых результатов, поскольку основные группы населения оказались не готовы к системному восприятию ла; типизации как универсального средства перехода к новым языковым взаимодействиям. Непрорабо-танностъ вопроса о самом функционировании языка, его наречиях, уровне развития, судьба унаследованных традиций Центральной Азии - вот да леко не полный перечень поднятых вопросов, затормозивших развитие реформы. Ввиду этого, реформирование письменности должно было пойти рука об руку с вопросом развития самого языка, утверждения его единых параметров в исключительно большом диапазоне диалектного разнообразия, неразвитости лингвистических норм и правил.
Для выработки правильных ориентиров развития языка и письменности был выбран метод широкой дискуссии, позволившей прийти к оптимальным формулам государственной языковой политики. В основу этой политики легло выравнивание общего ландшафта в языковой составляющей этнической Бурятии на основе широкого введения образовательных технологий - от ликвидации неграмотности до создания профессиональных учебных заведений. Кроме того, использовались специфически партийные методы работы, связанные с активным убеждением населения, и административным нажимом, способствовавшим более высокому уровню социальной мобилизации населения. Поднятые вопросы коренизации государственного аппарата повысили престижность языка, сферу' его применения, усилили государственный статус. Это позволило отнестись к вопросам языкового строительства, переходу на новую письменность как к задаче государственного значения, что должно было усилить предложенные реформы.
В коренном переломе общих настроений реформирования письменности значительную роль сыграли авторитетные российские структуры, ка-ковыми являлись Общество Нового Алфавита и Академия Наук СССР. Высокий моральный авторитет этих организаций, реальная поддержка советского государства усилили позиции в пользу реформирования письменности. Значительный опыт этих организаций, которые курировали развитие языкового строительства подавляющего большинства национальных регионов страны, позволили активистам реформирования бурятского языка найти правильные решения в более короткий срок, перейти к устойчивой разработке фундаментальных вопросов бурятского языкознания. Решение комплекса вопросов, связанных с самоидентификацией языка, пределов его функционирования, и системное обеспечение его составляющих основ позволили четко сформировать основу бурятского языка как научной дефиниции. Бурятский язык получил такую высокую степень эмансипации, что мог заявить о себе как самостоятельной единице в языковой картине мира. Эго, в свою очередь, позволило параллельно перейти к реформированию письменности.
Однако осуществление курса на реформирование письменности на латинизированной основе столкнулось с большими трудностями, значительная часть которых была связана с простым непониманием новой графики. Несмотря на попытку реформаторов свести эту проблему к недостаткам организационно-политической работы, рядовому саботированию курса реформ инерция культурноисторического развития не преодолевалась даже с помощью административно-командных методов. Использование идейно-политических мотивов для реформирования письменности, возведение ее в ранг классовой борьбы против остатков эксплуататорского строя незначительно стимулировало активность языкового строительства. Только привлечение значительных материальных активов, развитие издательской деятельности, фактический запрет старомонгольской письменности позволили создать вакуум для регрессивных настроений и продвинуть латинизированную письменность к более широкому кругу потребителей. Принятые меры существенно повысили значимость новой письменности, которая все более стала приниматься на вооружение в пространстве монгольской языковой семьи, послужила своего рода маяком дальнейшего прогресса.
Латинизация способствовала выделению бурятского языка в самостоятельную единицу в процессе языкового строительства. Этот процесс сопровождался созданием самостоятельной основы нового бурят-монгольского литературного языка, его новой орфографии, терминологии, грамматического строя языка и словарного состава, формированием системы функциональных и речевых стилей. К тому же, в результате продолжительных дискуссий был взят за основу литературного языка его хоринский диалект, позволивший создать в тот период ядро национальной бурятской культуры, закрепить ее результаты. Это позволило на новой основе восстанавливать культурные достижения народа, заложенные в корнях народных традиций. Только созданная модель языковой структуры и новых функций позволили ему приобрести конкурентное место в языковой картине страны и мира, утвердиться в профессиональной художественной культуре, науке, образовании, издательских и информационных системах того времени. Это дало, хоть на короткое время, возможность идентифицировать, в большей степени, собственную этничность. В результате этого бурятский язык приобрел необходимый уровень н опыт для последующих трансформационных процессов.
Реформирование письменности монгольских народов не получило логического завершения, поскольку трудный путь латинизации был прерван репрессивной политикой государства и правящей политической элитой. К сожалению, период языковых экспериментов и культурно-исторических модернизаций был завершен в пользу новых фор мул кириллизации письма. Трагические события 1937-1938 гг. болезненно сказались на судьбе бурятского языка, приобретавшего самостоятельные параметры развития, ввиду того, что значительная часть национальной интеллигенции, специалистов-ученых прекратили свою работу, а большая их часть ушла из жизни. В результате из суммы исторических случайностей сложилась цепь причин, повлекших значительный регресс бурятского языка, как в сфере функционирования, так и становления его на самостоятельной основе. При первой смене алфавита старомонгольская письменность в угоду латинизирующей реформе была названа ламаистско-дацанской, панмонгольской и предана забвению. Переход к латинизированной письменности совпал с трагическими событиями второй половины 1930-х гг. и завершился без всякого логического объяснения. Потребовался длительный период освоения новой графики с приспособлением к нему многих правил и норм функционирования языка. Кроме того, за короткий период трижды сменился официальный опорный диалект бурятского языка. Учитывая недостаточную развитость языка как системной основы всего этноса, тем более в условиях глобализирующегося общества, можно оценить негативные последствия национальной культуры. При этом необходимо отметить, что переход к кириллице все же имел весьма прогрессивное значение, ее усвоение оказалось более плодотворным, поскольку сказались глубинные исторические основы давнего многовекового толерантного межкультурного взаимодействия народов.
Список литературы Опыт языковых модернизаций первой половины XX в
- Агамалы-Оглы С. В защиту нового тюркского алфавита/С. Агамалы-Оглы. -Баку, 1927.
- Агазаде Ф. Очерк по истории развития движения нового алфавита и его достижения/Ф. Агазаде, К. Каракашлы. -Казань, 1928.
- Зак Л.М. Проблемы письменности народов СССР в культурном строительстве/Л.М. Зак, МИ. Исаев//Вопросы истории. -1966. -№ 2. -С.2-16.
- Исаев М.И. 130 равноправных/М.И. Исаев. -М., 1970.
- Первый Тюркологический съезд и его резолюции//Вестн. науч. общества Татароведения (ВНОТ). -1926. -№ 5. -С.4-89.
- Всероссийский Тюркологический съезд 26 февраля-бмарта 1926 г. Стенограф, отчет. -Баку, 1926.
- Хансуваров И. Латинизация -орудие ленинской национальной политики/И. Хансуваров. -М., 1932.