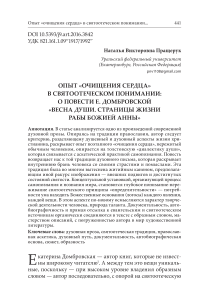Опыт "очищения сердца" в святоотеческом понимании: о повести Е. Домбровской "Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны"
Автор: Пращерук Наталья Викторовна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется одно из произведений современной духовной прозы. Опираясь на традиции православия, автор следует критерию, разделяющему душевный и духовный аспекты жизни христианина, раскрывает опыт поэтапного «очищения сердца», пережитый обычным человеком, опирается на толстовскую «диалектику души», которая связывается с аскетической практикой самопознания. Повесть возвращает нас к той традиции духовного письма, которая раскрывает внутреннюю брань человека со своими страстями и помыслами. Эта традиция была во многом вытеснена житийным каноном, предполагающим иной ракурс изображения - внешних подвигов и достигнутых состояний святости. Концептуальной установкой, организующей процесс самопознания и познания мира, становится глубокое понимание-переживание святоотеческого принципа «определительности» - потребности ума находить Божественные основания (логосы) каждого явления, каждой вещи. В этом аспекте по-новому осмысляются характер творческой деятельности человека, природа таланта. Документальность, автобиографичность и прямая отсылка к евангельским и святоотеческим источникам органически соединяются в тексте с образным словом, мастерством описаний, с погруженностью автора в мир художественной литературы.
Духовная проза, святоотеческая традиция, православная аскетика, духовный путь, документальность, автобиографическая основа, сюжет, образность
Короткий адрес: https://sciup.org/14748980
IDR: 14748980 | УДК: 821.161.1.09“1917/1992” | DOI: 10.5393/j9.art.2016.3842
Текст научной статьи Опыт "очищения сердца" в святоотеческом понимании: о повести Е. Домбровской "Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны"
Екатерина Домбровская — автор книг, которые не известны широкому читателю1. А между тем это вещи уникальные, поскольку — при высоком уровне владения образным словом — автор последовательно, с опорой на святоотеческую традицию, придерживается четкого критерия, разграничивающего душевный и духовный опыт. И пишет именно о духовном опыте и духовном возрастании2.
Задача огромной сложности и тонкости. Каждый шаг, каждое движение души своих персонажей автор сверяет с учением Церкви, с православной аскетикой. В аннотации к повести «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны» Е. Домбровская замечает: «Эта книга — и есть попытка погружения в глубины сердечной жизни человека, который, услышав зов Божий, пришел в Церковь, где Господь благословил ему нелестного наставника, о котором можно было бы сказать, что вот он — “един из древних”»3. Перед нами редкое произведение в современной светской литературе, являющее открытую аскетику в живом опыте самого обычного человека4.
Основой повествования стал рассказ о том, как образованная москвичка, журналист и писатель, после смерти сына принимает на двадцать лет добровольное послушание при монастыре. Произведение построено таким образом, что бытовая сторона жизни Анны, мир семейных и социальных отношений даются в аспекте ее духовного пути.
Книга имеет автобиографическую основу, но писатель не акцентирует это, а, напротив, вводит повествователя, рассказывающего историю другого человека — Анны, оставившей свои дневники. Такое «осложнение» повествовательной структуры наряду с другими аспектами формы призвано донести до нас тему слова, услышанного другим.
Логику развертывания смысла можно проследить уже в заголовках частей, составивших книгу. Повесть начинается главами: «Я видел монахов…» и «А почему нам должно быть хорошо?» и завершается — «Аще забуду тебе, Иерусалиме…», названной строчкой 136-го псалма: словно обозначены начало духовных исканий и их итог. Символичны и другие названия, по ним угадываются основные вехи пути, ведущего к обретению духовной родины: «Смиряйтесь, девочки!», «Обруган, высмеян, испытан…», «Явления Ангелов», «Христос никогда не отдыхает…», «Вино умиления», «Любить с креста», «Не сообразуйтесь с веком сим…». Можно говорить о заголовочном ансамбле, который становится настоящим путеводителем по удивительному миру этой непростой книги. Каждый заголовок, чаще всего символической или же сложно-ассоциативной природы, как будто проходит своеобразную процедуру «раскодирования». Например, глава «Любить с креста» расшифровывается так: «Лето под соснами. 33-ий километр. Уканул в сердце огонек… “Юбочницы” и фарисеи. Наука игуменьи Арсении» (курсив мой. — Н. П.). В этих пояснениях не только заключена логически-информативная подсказка, но и обозначено многое другое, относящееся и к смысловому объему всего произведения в целом, и к тому, как автор работает со словом. В частности, указанный пример «расшифровки» вобрал поэтическое именование хронотопа и наиболее конкретную констатацию места, метафору мига обретенной сердечной радости, возвращающую нам, между прочим, забытое слово, и намек на человеческий конфликт, имеющий вместе с тем духовную подоплеку.
Главы предваряются эпиграфами — цитатами, преимущественно, из святоотеческих трудов. Они не просто обобщают смыслы рассказываемого, но возводят их на новую духовную высоту и, по существу, играют роль словесной иконы (это определение особого жанра и особой функции литературного текста, кстати, использует Владыка, когда дает послушание героине написать «Словарь христианских понятий» — см. об этом дальше). А главы — это своего рода клейма на иконе [3, 286].
Посвящением «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ (ФРОЛОВА) (1947†2013)», которое появилось в новом издании, обозначено самое главное в этой книге — ее духовный и сердечный центр, масштабность авторской задачи и мера ответственности за написанное.
* * *
Е. Домбровская, в отличие от многих современных авторов, с самого начала не скрывает трудности, которые приходится преодолевать христианину (см. об этом: [4]; [6, 555]):
Разумеется, и старец учил христовой любви <…> можно даже сказать, требовал от чад, но все-таки дух его аскетической школы чуть-чуть, едва заметную малость смещал акцент в сторону суровости и некоторой непреклонности: и в требованиях к самому себе, и к своим ученикам. Впрочем, и эта требовательность была ничем иным, как проявлением предельной немалодушной Небесной высоты любви, о которой когда-то гениально сказал в своем Слове на Великий Пяток святитель Московский Филарет (Дроздов)5 <…> Любовь Духовника была распинающая. Он нес истинную Правду Креста. И недаром в его келье Анна <…> однажды <…> увидела на столике только что изданные тогда «Слова и речи» святителя Филарета со многими в них закладками (38–39).
Строгость — спасение от «суррогатной душевности» и залог подлинности обретенного — реального преображения души человеческой от «образа» к «подобию». Такая проблематика практически не ставится в современной беллетристике (см. об этом: [4]).
В данном случае автор показывает как раз трудность евангельского «узкого пути», обойти который нередко пытаются современные церковные люди. «Весна души» — очень правдивая книга, жесткая, но потому и выполняющая в полной мере функцию духовной литературы — врачевание наших душ (см. об этом: [1]; [6, 554–555]).
Осознать масштабность и новизну представленного в книге опыта помогает четкое разделение автором двух традиций духовного письма. Речь идет о том, что житийный канон, определяющий особый ракурс повествования о святых, практически вытеснил из нашего сознания традицию аскетических опытов, поэтапно описывающих труд «возделывания внутреннего человека». Тексты эти «были труднодоступны и постепенно вытеснялись житийным этикетом, в котором присутствовало довольно схематичное перечисление нередко немыслимых внешних подвигов: постов, вериг, огромных вычитываемых молитвословий и т. п., и крайне редко обращалось внимание на внутреннюю брань человека с кишащими в сердце страстями и помыслами. Так “умное делание” — возделывание своего внутреннего человека — постепенно уходило из широкой практики…» (391). Книга «Весна души» — редчайшая возможность приобщиться к почти пресекшейся традиции. Автор предлагает нам пройти вместе с Анной путь исцеления души, стать сердечным ее сотаинником. Нам явлена духовная реальность в ее глубине и напряженной динамике.
* * *
Если говорить о способах развертывания этой реальности в тексте, то очевидно, что писатель опирается на толстовскую «диалектику души» [9, 426], которая вовсе и не так далека от аскетической практики самопознания, именуемой святыми отцами «трезвением»6. Уже с самых первых глав на наших глазах разворачивается поучительная картина брани внутреннего человека с самим собой, что предполагает жесткий, нелицемерный самоанализ (а это немыслимо трудно, так как привычные всем самооправдания здесь запрещены). Автор пишет, как, например, поступает Анна в самом начале пути: постигая азы непомерно сложной науки восхождения к смирению и «подлавливая» себя на тщеславном помысле:
Итак, перед Анной стояла задача — смиряться <…>. И она пыталась делать все, что только могла и не могла. В первый год, едва познакомившись с несколькими монахинями, благоговея перед их чином <…> она бросилась завязывать шнурки на ботинках, когда они развязались у одной из матушек. <…> себя Анна подловила на тщеславном помысле, словно ей кто-то хитро-льстивый шепнул: «Какая смиренница наша Анна!», тем более что все происходило на монастырской соборной площади, куда выходили окна Духовника. <…> Слышала ли она тогда движения своего тщеславия, отгоняла ли молитвой подобные помыслы — трудно сказать. В ее тетрадях молитвы, которые благословляли святые отцы читать для борения с тщеславными помыслами, появились позже (103–104).
Повествовательная манера автора стереоскопична. Детализация, связанная с воспроизведением впечатлений, реакций, переживаний, вернувшихся через годы, соединяется с обобщениями сегодняшнего видения и понимания, добытых тяжелым опытным путем (см. об этом также: [10]).
Анна не останавливается на душевном, она добирается до духовных оснований и первопричин. Перед нами — техника и технология очищения сердца с беспощадным «вскрывани- ем мозга и грудной клетки» (самой Анной или ее духовным отцом), с пристальнейшими наблюдениями за изменениями состояний и «улавливаниями» даже намеков на те или иные помыслы, уводящие от Истины. Такая внутренняя работа носит отнюдь не головной характер, она полита живой кровью горячего сердца: осуществляется не препарирование «мертвого тела», но рождение в новую подлинную жизнь, которое с обязательностью закона должно быть оплачено непрестанно совершаемым евангельским самоотречением7.
Важные пояснения к тому, что переживает Анна, содержит глава «Искусство стегания одеял». Заголовок, как будто бы адресующий нас к конкретному делу-ремеслу, носит метафорический характер. Не случайно цепочка «расшифровок» к главе завершается серьезно и высоко: «Даждь кровь и при-ими дух». Но при этом подчеркнутая обыденность названия выполняет и другую функцию: как в освоении искусства стегания одеял, так и в этой, казалось бы, далекой от наших повседневных работ деятельности, необходимы конкретные, терпеливо и ответственно исполняемые шаги, а также навыки, приобретенные последовательным выполнением определенных действий — безропотным терпением находящих человека испытаний и скорбей.
Необходима труднейшая практика самопознания, требующая сосредоточенности, самоотдачи и мужества, поскольку погружение в глубины собственного сердца — процесс болезненный — потому и «отдай кровь…»: «“Всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения” (Евр. 9:22). <…> Она уже готова была жить на земле как в раю, а тут ей вдруг предложили вернуться в… ад» (193).
Главе предпослан эпиграф из трудов прп. Никиты Стифа-та о труде самопознания (189). Самопознанием начинается аскетический опыт, преобразующийся на зрелых ступенях в «умное делание», которое базируется на «трезвении» и «внимании». Самопознание совершается на пути претерпения искушений и никак иначе — «с великою радостию принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры производит терпение» (Иак. 1:2). Именно в жестокой брани с искушениями мы учимся труднейшему навыку — самоукорению, которое только и приводит к подлинному покаянию и сокрушению. И тогда возможно достичь желанного: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (50 пс.). Потому прп. Никита Стифат и полагает, что познавший себя духовно уже совершил все заповеди (189).
Автор намеренно не скрывает слабостей Анны и того, как достигаются ею маленькие победы над собой, в которых она тем не менее всегда оказывается, с мирской точки зрения, в роли побежденной. Эти правила аскетической науки трудно даются нашему житейскому пониманию. Только в состоянии сокрушения (кенозиса), в сердечно выстраданном осознании, что ты-то и есть фарисей, что ты «нищее всех», «хуже всех», «тише воды — ниже травы» или же «тебя нет» — ты берешь еще одну ступеньку в своем духовном возрастании, делаешь шажок вперед к освобождению от ветхости в себе. Радость, которая наполняет сердце в такие минуты, — это прикосновение к подлинному, к Истине. И ее ни с чем другим невозможно сравнить или перепутать.
В книге, безусловно, много боли — и это закономерно, поскольку «только скорби выбаливают грех». Но при этом автор описывает «высокие точки духовного бытия» своей героини, которые были ей дарованы и памятью о которых полнится и живится ее сердце: «Путь Анны в Церкви складывался своеобразно. Господь первоначально давал ей случаи прожить в редких, но предельно ярких мгновениях какие-то высокие точки духовного бытия, чтобы потом отойти, оставив ее только с памятью об этих высоких духовных состояниях…» (189–190).
При этом Е. Домбровская верна духу и смыслу Предания: о неотмирном опыте свидетельствуется в контексте того самого «трезвения», без которого немыслима верная духовная оценка того, что же с человеком происходит. И здесь, по всей видимости, следует упомянуть еще одну очень важную авторскую установку, которой руководствуется писатель, обобщая опыт своей героини. Речь идет о том, чему учил автора когда-то его Духовник, а именно «определительности» — потребности ума (приобретаются и соответствующие навыки мышления) выискивать Божественные основания каждой вещи под солнцем, каждого явления и состояния8.
* * *
Святые отцы эти «основания» называли Божественными логосами — заданными Самим Творцом основаниями всему сущему. Е. Домбровская, поясняя этот принцип «определительности», полагает, что он мог бы стать главным в воспитании и образовании в целом: «Логосы Божии — это “смысл всех смыслов” (свт. Григорий Богослов), внутренняя основа и сущность всего существующего. Святые отцы говорили о логосах как о “первообразах, которые существуют помимо чувств” (прп. Максим Исповедник), как о Божиих “идеях-во-лениях, волящих мыслях” (прп. Иоанн Дамаскин). <…> Логосы — это образующее начало всякой твари и орудия, посредством которых Бог творит мир. Это “действующая причина всего сотворенного” (свт. Василий Великий), и идея, и принцип, и закон тварного бытия, и цель, к которой тварь должна быть устремлена…» (418).
Само «устроение» книги, высокая простота смыслов и композиции ее, правда настоящего русского слова — это и есть пример реализованного в творчестве принципа «определительности». И урок смирения — от автора, самого прошедшего школу сокрушения. Особенно поучительна история последнего послушания, которое Духовник дает Анне, — написания «Словаря христианских понятий».
Если исходить из нашей «суррогатной душевности», вполне понятны стремления героини, ее переживания и обиды. Будучи пишущим литератором, профессионалом высокого класса, она была отлучена от любимого дела на целых 17 лет — в соответствии с традиционной духовнической практикой, предполагающей спасения души ради (если собираешься остаться в монастыре, а героиня очень стремилась к этому) глубокое самоотречение от всех своих «имений» — в том числе и от некоего признания за собой достоинств профессиональных. Объяснение сути этой практики содержится в суждении о. Софрония (Сахарова), приведенном в эпиграфе к главе с характерным названием «Обруган, высмеян, испытан»: «Если я одарен умственно для серьезной научной работы или для художественного творчества, то мой успех явится поводом к тщеславию, и становится невозможным найти глубокое сердце: место духовной молитвы» (119). А далее — в главе «Оливковый пресс» — речь идет о состоянии «беспокровного странничества» как необходимом этапе очищения сердца и достижения той самой «определительности»: «Что-то очень глубокое, сакральное, до священного ужаса бесконечное открылось тогда потрясенному сознанию Анны… Первая заповедь: “…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею…” (Мк. 12:30). <…> Заземленный человек ищет дела. А отшельник? Ему что становится делом? Только молитва…» (290). И Анна начинает постигать истину слов великого святителя Филарета Московского, которые «он произнес однажды в своей проповеди на Рождество Христово: “Беспокровные токмо странники входят в Вефиль и Вифлеем — дом Божий и дом Хлеба животного. Только произвольные изгнанники земли приемлются в граждан неба”» (303). В этой главе, по существу, развернуто обоснование «узкого пути» Анны. Иначе — гордости в человеке не поколебать.
Наконец, запреты сняты — Анна получает благословение вновь заняться писательством. Ее рвение в исполнении послушания — при всех очевидных положительных мотивах — обнаруживает тем не менее в сердечных глубинах то, с чем, как ей казалось, она уже справилась. Недостаточно еще был очищен ум Анны от старых взглядов — «предзанятых поня-тий»9. Однако все должно быть пересмотрено заново в свете Христовом, а то, что рождено неверием или полуверием, смешением разных душевно-духовных стихий и культур, добра и зла, нельзя автоматически взять в работу. Состояние Анны отягощено еще и «злопомнением боли»10, обостренным душевными страданиями, которые связаны с неосуществив-шимся монашеством.
Много позже, когда уже Духовник покидает монастырь, Анна осознает, что же на самом деле с ней произошло: «Выработался некий навык, который тогда, в отсутствии бдительности, бездумно (не без давления ущемленной гордости) и сработал механически — как автомат» (456–457).
Особенно ей памятна, как она выражается, двадцатистраничная «публицистическая простыня» вместо четырехстраничной вступительной статьи к словарю, краткой и внятной.
Обобщая переживания Анны, автор отмечает, как в процессе работы она изменилась:
Вообще же, несмотря на то, что работу над «Словарем понятий» Анна самочинно прекратила — <…> мозг ее, душа и сердце неустанно продолжали над словарем работать. Вся ее внутренняя «механика» была уже переформатирована, о чем она сама пока не подозревала, не замечая, что стремление определять и описывать понятия, приникать всецело к звучаниям Божественных логосов, питать ими свое сердце стало теперь всецелым влечением ее духа, потребностью, без утоления которой она не могла жить… (469).
* * *
Путь Анны раскрывается и в испытаниях ее отношений с окружающими людьми. Что претерпеть, как поступить, чтобы эти люди, часто не отличающиеся добродетельным поведением, становились действительно «ближними»? В понимании того, какой должна быть любовь к ближним, Анна опирается, безусловно, на апостольское определение и вместе с тем приводит расшифровку из поучений игумении Арсении (Себряковой): «…если любить ближнего для себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради самого, надо исполнять его волю, его желание. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться и в отношении его исполнять волю Божию и ходить непорочно во оправданиях Его. Будем любить ближнего ради Господа» [5, 34–35].
Настоящие уроки именно такой любви — «к ближнему ради Господа» — дает ей наставник, начиная с первых шагов ее послушания. Некоторые его оценки, поступки — нам, оценивающим их с позиций душевности и житейского здравого смысла, могут показаться даже жестокими. Так, например, когда Анна страдала болезнью сердца и сказала об этом Духовнику, он, «не вдаваясь в расспросы, мгновенно отпарировал, как выстрелил: “— Сердце болело, говоришь? — Так это от гордости”» (135). Подобным образом он объяснил героине и ее внутреннюю робость. Только пройдя большую часть своего пути, Анна начинает понимать, какой целебной силой обладало это горькое лекарство. Ведь без него она вряд ли смогла бы «вырваться из этого темного и душного плена само-жаления» (137). Смиряясь, она все явственнее чувствует силу молитв наставника за своих духовных чад.
Образ Духовника Анны можно считать центральным в книге. Автор, следуя за героиней, обращается к нему на протяжении всего произведения: «Он не терпел лжи, притворства, “игры” — даже в самом тонком ее проявлении, — все ведь это было знаком прелести — опасной церковной болезни. А прелесть эта в то время вылезала из всех щелей. <…> Стяжать святость было сверхтрудно. А играть в святость, изображать ее — ничего проще» (57–58).
Прообразом старца является архиепископ Костромской и Галичский Алексий (Фролов), известный строжайшей аскетической верностью духу Евангелия. Вспоминая наставника, Е. Домбровская пишет: «Владыка Алексий нередко обращал сердечное внимание чад к воззрению на реальность духовную. И то, как он это делал, действительно помогало тем, кто стремился <…> с притрудностию искать в своем сердце в и дение иной, подлинной реальности. В том числе и в пространствах истории»11. В книге достаточно эпизодов, которые более чем ярко иллюстрируют эти слова. Один из них — о том, что переживает Анна после Литургии в честь святого равноапостольного князя Владимира: «Неземной покой или тишина, не святое даже расположение души, которое бывает в Церкви после Причастия, но состояние <…> “мира Божия, который превыше всякого ума”, “исполняющего все существо наше непостижимою силою и небесною сладостию” (свт. Игнатий (Брянчанинов))» (377).
* * *
Книга завершается знаковым событием — отъездом Владыки в другую епархию. Анна остается без наставника с приобретенным духовным «багажом». Пройдя «школу сокрушения», она переживает состояние подлинной духовной радости. Символично, что это время перед началом поста, когда Анна
«уже трепетала сердцем от ожидания <…> радости, ни с чем в этой жизни не сравнимой: ощущения себя крупицей соборного единства Церкви, причем не только в пространствах горизонтали жизни, но и в пространствах вертикали — в единении с предками»: «Однако нужно было идти в дом: вечерело, пора было затапливать печку. К ночи обещали метель…» (511).
Картина весны, чреватой метелью, полна символики. Не таков ли наш путь взращивания в себе «драгоценного пред Богом» духовного человека? Путь, который, пока мы живы, завершить невозможно, как и измерить его «оземлененным, преданным вещественности рассудком». Потому пластика открытого финала, вобравшая многолетний опыт русской классической литературы, — это не только обозначение авторского нежелания формально итожить судьбу Анны. Это, наверное, единственно возможное завершение книги, помогающей читателю заглянуть и в глубины собственного сердца.
М.: У Никитских ворот, 2016. С. 2. Далее повесть цитируется по этому изданию с указанием страницы в круглых скобках.
«Духовное бдение, постоянное внимание к тому, чтобы помысел не покинул рассудок и не вошел в сердце. В сердце должен находиться именно ум, а не помыслы. Это духовное бдение и называется трезве-нием» [2, 132].
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» (Лк. 14:33–34).
«Совершенство духовное — это великая способность различения добра и зла, пребывание совершенного ума в истинной иерархии ценностей и правильных понятий о чем бы то ни было в жизни, это та самая определительность, о которой писал святитель Игнатий (Брянчанинов): “Определительность в религиозных и нравственных понятиях имеет необыкновенную цену; неопределительность — большой недостаток, отзывающийся во всех действиях шаткостию, непрочностию…”» (389). «В случае Анны речь должна была бы идти о тех самых “предзанятых понятиях” (прежних впечатлениях), которые бесконтрольно пронеслись тогда сквозь нее, не успевшую насторожиться и потребовать паспорта у тех злосчастных помыслов…» (457–458).
AN EXPERIENCE OF “HEART PURIFICATION”
“THE SPRING OF SOUL.
LIFE SCENES OF ANN, THE SERVANT OF GOD”
Дата поступления в редакцию: 20.08.2016
Список литературы Опыт "очищения сердца" в святоотеческом понимании: о повести Е. Домбровской "Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны"
- Долгова Е. Русская духовная проза 30-70-х годов XIX века . -URL: http://aseminar.narod.ru/dolgova.htm (05.12.2014).
- Иерофей (Влахос), митрополит. Православная духовность/пер. с новогреческого. -М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2009. -136 с.
- История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. -Тверь: ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 2010. -288 с.
- Леонов И. С., Корепанова В. А. Поэтика православной прозы XXI века. -Ярославль: Ремдер, 2012. -122 с.
- О любви//Чистое сердце. По трудам игумении Арсении (Себряковой). -М.: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2010. -С. 34-35.
- Пращерук Н. В. Духовная проза Станислава Минакова//Церковь. Богословие. История: материалы III Международной научно-богословской конференции. -Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2015. -С. 554-560.
- Филарет (Дроздов), митрополит. Пространный Православный Катихизис (Катехизис) Православной Кафолической Восточной Церкви. -М.: Сибирская Благозвонница, 2013. -160 с.
- Филарет (Дроздов), митрополит. Слова и речи; Житие преподобного Сергия Радонежского и всея Руси чудотворца. -. -М.: Планета, 2014. -VII. -589 с.
- Чернышевский Н. Г. «Детство» и «Отрочество». Военные рассказы графа Л. Н. Толстого//Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. -М.: ГИХЛ, 1947. -Т. 3. -С. 418-459.
- Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. -Пб.; Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922. -78 с.