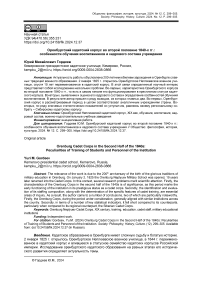Оренбургский кадетский корпус во второй половине 1840-х гг.: особенности обучения воспитанников и кадрового состава учреждения
Автор: Гордеев Юрий Михайлович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность работы обусловлена 200-летним юбилеем зарождения в Оренбурге славных традиций военного образования. 2 января 1825 г. открылось Оренбургское Неплюевское военное училище, спустя 19 лет переименованное в кадетский корпус. В этой связи определенный научный интерес представляет собой исследование нескольких проблем. Во-первых, характеристика Оренбургского корпуса во второй половине 1840-х гг., то есть в самом начале его функционирования в престижном статусе кадетского корпуса. Во-вторых, выявление и оценка его кадрового состава и определение особенностей обучения воспитанников. В результате автор пришел к ряду выводов, из которых главных два. Во-первых, Оренбургский корпус в рассматриваемый период в целом соответствовал аналогичным учреждениям страны. Во-вторых, по ряду ключевых статистических показателей он уступал им, равняясь своему региональному собрату - Сибирскому кадетскому корпусу.
Оренбургский неплюевский кадетский корпус, xix век, обучение, воспитание, кадровый состав, военно-подготовительные учебные заведения
Короткий адрес: https://sciup.org/149146701
IDR: 149146701 | УДК: 94(470.56):355.231 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.37
Текст научной статьи Оренбургский кадетский корпус во второй половине 1840-х гг.: особенности обучения воспитанников и кадрового состава учреждения
Кемеровское президентское кадетское училище, Кемерово, Россия, ,
Kemerovo presidential cadet school, Kemerovo, Russia, ,
Данная статья посвящена изучению периода функционирования учебного заведения во второй половине 1840-х гг., то есть в самом начале его функционирования в престижном статусе кадетского корпуса. Она продолжает серию научных публикаций автора, посвященных основанию и становлению училища в период 1801–1839 гг. (Гордеев, 2024а; 2024б; Гордеев, Карпинец, 2024). Указанные работы как фактическим материалом, так и рядом аналитических суждений призваны дополнить научно-популярные монографии, посвященные данной проблеме (Матвиев-ская, 2016; Семёнов, Семёнова, 2017).
Исследование реализовано с методологической позиции системного подхода с применением общенаучных и специальных исторических методов: хронологического, генетического, историко-сравнительного, также метода структурно-функционального анализа.
Результаты . В мае 1846 г. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (далее – О.Н.) с очередной ревизией посетил инспектор военно-учебных заведений генерал-лейтенант Н.П. Анненков.
На момент инспекции в 1-м эскадроне О.Н. обучалось 100 воспитанников: 23 – в приготовительном классе, 24 – в нижнем, 23 – в среднем, 30 – в верхнем. Воспитанники приготовительного класса, набранные в основном с июля по октябрь 1845 г., пребывали в возрасте от 10 до 13 лет при среднем возрасте в 11 лет. Воспитанники нижнего класса, набранные также преимущественно с июля по октябрь 1845 г., были в возрасте 10–15 лет при среднем возрасте в 13 лет. Кадеты среднего класса, набранные на протяжении первой половины 1840-х гг., были в возрасте от 13 до 17 лет со средним возрастом в 15 лет. Наконец, кадеты верхнего класса «европейского» эскадрона, набранные на протяжении конца 1830-х – начала 1840-х гг., были в возрасте от 15 до 19 лет при среднем возрасте в 17 лет.
Во 2-м эскадроне в мае 1846 г. обучалось 67 воспитанников, из них: 34 кадета – в приготовительном классе, 22 – в нижнем, 6 – в среднем и 5 – в верхнем. Здесь кадеты приготовительного класса, набранные с июля по декабрь 1845 г., были в возрасте от 10 до 15 лет при среднем возрасте в 12 лет. Кадеты нижнего класса, также набранные в основном в июле 1845 г., были в возрасте от 12 до 15 лет при среднем возрасте в 13 лет. Средний возраст кадет среднего класса соответствовал 16 годам, верхнего – 181. Таким образом, констатируя факт, отметим: ко второй половине 1840-х гг. в О.Н. сложилась полноценная система воспитания и образования детей от мальчика до офицера. Этому по профессии и долгу службы и, чаще всего, по призванию, способствовали 42 человека, половина из которых составляли административно-управленческий и офицерский персонал, и половина – персонал преподавательский.
Н.П. Анненков уже инспектировал учреждение двумя годами ранее, в 1844 г., именно в тот момент, когда военное училище переименовывалось в кадетский корпус, и тогда он практически не нашел в его деятельности недостатков, по крайней мере был сдержан в негативных оценках, и, напротив, щедр на позитивные. Два года спустя, в 1846 г., он вновь ревизовал данное учреждение, но уже в его обновленном «кадетском» статусе, а значит, и требования, по всей видимости, предъявлял уже более высокие.
В частности, Н.П. Анненков достаточно откровенно высказался о кадрах учебного заведения: « В приискании учителей корпусное начальство имеет большие затруднения. Малое содержание, суровость оренбургского климата, отдалённость Оренбурга от больших городов и мест, имеющих высшие учебные заведения, не оставляют никакого сомнения, что человек с основательными познаниями не изберет Оренбургский край в качестве места своего служения, поэтому лучшие учителя корпуса – из его же воспитанников ». Таким образом, этим высказыванием Анненков как бы усомнился в компетентности и профессионализме учительского состава корпуса, за исключением учителей из воспитанников. Вместе с тем инспектор, посетив лекции учителей, отметил: « Преподаватели хорошо излагают свои лекции, не упуская из вида внимание слушателей, употребляют выражения, примеры и сравнения, доступные пониманию воспитанников. Воспитанники, в свою очередь, отвечают уверенно, просто, вразумительно и находчиво ».
Особо инспектор отметил главную особенность корпуса – высокое качество преподавания восточных (арабского, персидского и арабского) языков. Об этом свидетельствовало, в том числе, и то, что выпускники восточного отделения поступали на службу в пограничные управления толмачами и переводчиками с восточных языков без каких-либо дополнительных курсов повышения ква-лификации2.
В 1848 г. Оренбург постигла «холерная катастрофа», которая еще более усугубила «кадровую атмосферу» корпуса. Оренбургский краевед, член Оренбургского отдела РГО Пётр Данилович Райский так писал о ней: «В 1848 году в Оренбурге свирепствовала холерная эпидемия, которая была ужасна. Старожилы рассказывают, что люди умирали на улицах и все, кто только мог, убегали из города. Холера [тогда] уничтожила около половины всего населения Оренбурга»1. Картину бедствия рисуют следующий абзац и подстрочные ссылки к фамилиям погибших, демонстрирующие, что холерная эпидемия не щадила никого: ни молодых, ни старых, ни лиц солдатского, ни дворянского происхождения. Смерть, как самое демократичное явление в мире, летом 1848 г. вовсю хозяйничала в Оренбурге.
В разгар холерной эпидемии с 21 июня по 12 июля умерли директор корпуса И.М. Марков2 в возрасте 48 лет, командир служительской команды Ф.И. Акрынов3 (38 лет), старший учитель математики А.Н. Кандаринцев4 (36 лет), старший учитель немецкого языка И.З. Блюменберг5 (46 лет), младший учитель немецкого и французского языков И.К. Фенколь6 (65 лет), старший учитель истории А.А. Коссович7 (31 год), учитель фехтования И.А. Матони8 (55 лет), священник и законоучитель православного исповедания И.Г. Соколов9 (42 года) и даже бухгалтер А.Л. Бес-смертнов10 (51 год)11. Ситуация усугублялась тем, что, к примеру, действительный студент А.А. Коссович (31 год) был холост, в то время как у И.М. Маркова вдовами и сиротами остались жена, дочь и два малолетних сына, у И.Г. Соколова – супруга, две дочери и два малолетних сына, у И.А. Матони – жена и три дочери, у А.Л. Бессмертнова – супруга, три сына и малолетняя дочь12. Вдовам были назначены соответствующие пенсии13.
Для Оренбурга в целом и О.Н. в частности это была настоящая трагедия, однако жизнь продолжалась, и на момент 1848 г. кадровый состав учебного заведения выглядел следующим образом.
Новым директором О.Н. императорским приказом от 11 августа 1848 г. был назначен командир 2-го полка Оренбургского казачьего войска полковник Михаил Сергеевич Шилов14. С 1832 г., а к 1848 г. уже 16 лет, инспектором классов был высоко ценимый самим кадетом Далем, но раскритикованный за грубость обращения с воспитанниками кадетом Залесовым, Александр Никифорович Дьяконов. Его помощником был капитан Пётр Васильевич Митурич. Чиновную должность эконома и полицмейстера занимал отставной майор Максим Ефимович Артемьев. Командиром 1-го эскадрона и одновременно преподавателем военных наук являлся капитан Пётр Логгинович Эн-гельке. Командиром 2-го эскадрона с 1845 г. был служивший с 1841 г. офицером О.Н. поручик Александр Александрович Фигнер.
С 1841 г. помощником ротного командира О.Н., а с 1845 г. адъютантом и казначеем служил поручик Иван Васильевич Бибиков. Эскадронным офицером, также библиотекарем и смотрителем музеума являлся поручик Александр Михайлович Аничков. В должностях эскадронных офицеров О.Н. трудились поручики Иван Гаврилович Масленников и Александр Егорович Попыва-нов, штабс-капитаны Эдуард Вильгельмович Рамбах и Павел Степанович Мертваго.
Должность делопроизводителя с 1842 г. занимал коллежский секретарь Степан Яковлевич Пироговский. Его помощником и архивариусом являлся еще один «долгожитель» Неплюевки, с 1831 г. занимавший различные должности фельдфебеля, эконома, писаря, коллежский регистратор Фёдор Иванович Лобанов. Должность архитектора с 1846 г. занимал окончивший в 1843 г. Императорскую академию художеств свободный художник Александр Александрович Цыков. Старшим лекарем являлся штаб-лекарь Дмитрий Алексеевич Петров, младшим с 1845 г. – титулярный советник Станислав Иванович Станиславский. Берейтором, учителем верховой езды был губернский секретарь Иван Петрович Леблан.
Преподавательский состав складывался из следующих персон. С 1836 г., а к 1848 г. уже 12 лет старшим учителем русской словесности и военного судопроизводства был надворный советник Александр Павлович Грязнов. Должность старшего учителя естественных наук занимал коллежский асессор Эрнест Христианович Рейхенбах. Старшим учителем математики, кроме того, преподавателем физики, земледелия и лесоводства с 1841 г. являлся Николай Андреевич Фёдоров.
Должность младшего учителя арабского и персидского языков занимал первый выпускник (!) Неплюевского училища 1831 г., с 1836 г. неизменный преподаватель восточных языков, титулярный советник Салихджан Биктяшевич Кукляшев. К сожалению, не сохранилось его изображение, если оно когда-либо было сделано. По нашему ощущению, это была очень интересная личность. Аналогичной оценки заслуживает выпускник О.Н. 1841 г. младший учитель татарского языка титулярный советник Искандер Аллюкович Батыршин. Вторым младшим учителем татарского языка являлся титулярный советник Василий Федорович Костромитинов. Выпускник Неплюевки 1838 г. коллежский секретарь Мирсалих Мурсалимович Бекчурин с 1841 г. преподавал арабский и персидский языки. Преподавание восточных языков, возможно, было сильнейшей стороной рассматриваемого учебного заведения и составляло его основную специфику в ряду кадетских учебных заведений Российской империи.
C 1837 г. учителем танцев был коллежский секретарь Михаил Осипович Дотти. Младшим учителем французского языка являлся Джулиан Джулианович Курвоазье, который сам был носителем этого языка. С 1837 г. занятия гимнастикой практиковал Михаил Иванович Иванов1. Вспомогательный персонал нижних чинов насчитывал 48 человек. Из них: 2 унтер-офицера, 5 писарей, 2 фельдшера, остальные – служители2.
Господину Анненкову, инспектировавшему учебное заведение и выступавшему с осторожной критикой его кадрового состава, конечно, было виднее, но, на наш непредвзятый исследовательский объективный взгляд, кадровый состав училища был более чем подобающим. К 1848 г. в учебном заведении уже более десятка лет служили выдающиеся преподаватели: А.Н. Дьяконов, А.П. Грязнов, С.Б. Кукляшев, М.О. Дотти, М.И. Иванов. Не только срок службы, но ее качество отличало М.С. Бекчурина, В.Ф. Костромитинова и других. Да, мы не встречаем среди преподавателей Неплюевки ни Ушинского, ни Водовозова, и в то же самое время никаких видимых и явных недостатков в штатном составе корпуса мы не находим, напротив, отмечаем относительную стабильность кадрового состава учебного заведения, констатируем факт, что возникавшие проблемы кадров оперативно решались. Более того, училище выпустило из своих стен специалистами, а потом вновь приняло их в качестве учителей и офицеров многих талантливых воспитанников О.Н.
Статистический анализ возраста и жалования демонстрирует, что средний возраст служителей составлял 40 лет, среднегодовой размер оклада – 400 руб. серебром. В этом плане в 1840-х гг. положение осталось неизменным в сравнении с десятилетием 1830-х гг.
Региональным начальником О.Н. в рассматриваемый период являлся военный губернатор Владимир Афанасьевич Обручев. Одним из последних приказов главного начальника военноучебных заведений великого князя Михаила Павловича, умершего в 1849 г., был приказ об осмотре В.А. Обручевым Оренбургского корпуса3. Обычно ревизия носила внешний характер: ее осуществляли особые инспекторы военно-учебных заведений, но в этот раз столичный инспектор, возможно, побоялся ехать в постхолерный Оренбург. В любом случае в самом конце 1849 г. осмотр был произведен В.А. Обручевым, и этим подведен своеобразный итог деятельности учреждения за четверть века 1824–1849 гг.
При осмотре учебного заведения В. Обручев оценивал его по следующим, классическим для подобного рода инспекций, параметрам: образование нравственное, умственное, физическое, фронтовое, также управление и хозяйство корпуса.
Уровень « нравственного образования » в корпусе В.А. Обручев оценивал достаточно высоко. Во-первых, он непосредственно пообщался с кадетами и определил следующее: « При разговорах с воспитанниками найдены в них достаточная развязность, свободное, но пристойное обхождение, весёлый взгляд и доброе выражение лица. Воспитанники азиатского происхождения , – отмечал инспектор, – имеют менее живости и более степенны, но не суровы, а покорны, тихи и дружественны ». Во-вторых, инспектор посетил церковное богослужение с участием кадет и увидел, что они не только внимают литургии, но и поют в церковном хоре, « поют внятно, согласно, довольно приятно ». Священнослужители учреждения как православного, так и магометанского исповедания старались наставить воспитанников на путь религиозной нравственности не только в урочное время, но и во внеурочных непринужденных беседах, что приносило свои добрые плоды.
Изучив документацию корпуса в виде аттестационных тетрадей и ежедневных приказов, В.А. Обручев выяснил, что если некоторые кадеты и допускали проступки, то чаще всего обусловлены они были « юношеским возрастом и природной живостью характера воспитанников ». Детские шалости, с которыми боролись тремя видами наказаний от простого к сложному: замечание, частичная изоляция от общества (постановка «в угол»), наконец – карцер, что было крайне редко и носило особый характер. Вообще Владимир Афанасьевич отмечал такое идиллическое состояние учреждения, когда « начальство корпуса обходится с воспитанниками кротко и пользуется их доверенностью, любовью и уважением »1.
Качественный уровень «образования умственного», то есть собственно учебного процесса, инспектор характеризовал следующим образом. Он констатировал факт разделения корпуса на два отделения – европейское и азиатское, и это, пожалуй, была одна из главных особенностей учебного заведения, выделявшая его среди подобных. На европейском отделении набор предметов и количество часов соответствовали принятому образовательному стандарту под названием «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений», утвержденного 24 декабря 1848 г. Программы учебных дисциплин О.Н. также соответствовали стандарту « Наставления …» с двумя отличиями. Во-первых, военные науки в Неплюевском преподавались по особой, облегченной программе, отдельно утвержденной Штабом военно-учебных заведений. Во-вторых, в учебном плане О.Н. значился такой предмет, как «Земледелие и лесоводство». На азиатском отделении О.Н. специфика была более существенной. Во-первых, европейские языки здесь были заменены азиатскими: арабским, персидским и татарским. Во-вторых, преподавание математики ограничивалось арифметикой и геометрией, а военные дисциплины почти не изучались. По сути, это было что-то вроде языковой школы. Обучение прочим учебным предметам соотносилось с программой европейского отделения с небольшим сокращением объема часов. Преподавание предметов в обоих отделениях было разделено на два года, составлявших один учебный курс, поэтому основной экзамен и выпуск производились через два года. Учебный процесс в общей сложности продолжался 8 лет и разделялся на три курса: 1-й – приготовительный – длился 2 года, 2-й – общий – 4 года, 3-й – специальный – 2. Создание особого приготовительного класса, которого не было до середины 1840-х гг., со временем до-казало свою необходимость. Если дети чиновников казачьих войск при поступлении в О.Н. зачастую не умели читать и писать, то азиаты порой вообще не говорили по-русски. Как тем, так и другим, было не то чтобы сложно, а порой и вовсе невозможно уследить за ходом учительской лекции. В этой связи для означенной категории абитуриентов без приготовительного курса было не обойтись. Таким образом, уровень и воспитания, и образования Обручев в результате инспекции 1849 г. нашел в высшей степени удовлетворительным, как и степень физического состояния учащихся2.
Он отмечал, в частности, что воспитанники «имеют довольный вид, веселы, непринужденны и почтительны в обращении. Цвет лица имеют здоровый, в движениях они бодры. Одеты опрятно, платья сшиты хорошо. В классах и спальнях как в дневное, так и в ночное время воздух весьма чист. Все здания корпуса освещаются хорошими лампами и в достаточном числе. Столы, стулья, кафедры, шкафы и скамейки дубовые по образцу Дворянского полка. Кровати железные 4-х разновидностей в зависимости от роста воспитанников. Режим дня соблюдается беспрекословно. Комплекты одежды и белья пронумерованы, и каждый воспитанник имеет свой номер. Сапоги шьются по размеру на заказ сапожниками. Парадные и классные куртки, шаровары, шапки и вся амуниция сшиты в соответствии с образцами из добротных материалов. Ружья на три роста тульского завода. Вся амуниция вообще щеголевата, и вид воспитанника в полном одеянии воинственен и без излишних украшений. Пища свежа, питательна и неприхотлива, но достаточна; вообще, столовая и кухня – в безупречном порядке. Каждый воспитанник имеет индивидуальные столовые приборы. Баня – один раз в неделю по средам, летом – купальня на реке Урал ежедневно. Вне классов воспитанники упражняются в фехтовании, гимнастике и танцевании, воспитанники специальных классов – в верховой езде. Верховые лошади в совершенном порядке. Строение лазарета удобно и состоит из 6 комнат. Корпус имеет двух хороших медиков, лекарства в лазарет поставляются своевременно»1.
Заключение . Оренбургский военный губернатор В.А. Обручев, ревизуя учебное заведение в конце 1840-х гг., никаких изъянов в отношении физического содержания кадет не нашел, и в характеризуемом им месте, прочитав все это, действительно хочется учиться. И все же все эти оценки расходятся с личными впечатлениями кадет, например, Николая Залесова, который позднее, уже будучи генералом, вспоминал: « Кормили плохо, держали в холодных комнатах, бессовестно воруя дрова, учили всему и ничему, верхушкам, налегали всеми мерами на фронт, исправно секли по субботам »2. Однако же следует понимать специфику источников информации. Делопроизводственный документ в виде инспекторского отчета имел строгую форму, не допускавшую таких откровенных свидетельств, изложенных в мемуарах бывшего кадета. Именно поэтому достоинство привлечения различных источников информации заключается в том, что даже если они и противоречат друг другу, тем не менее совокупно приближают нас к искомой исторической истине. Несмотря на то, что в европейском эскадроне военные науки преподавались в несколько упрощенном порядке, чем в остальных кадетских корпусах страны, а на азиатском отделении таковых почти не было, все-таки это было военное учебное заведение, поэтому фронтовые учения проводились. Наблюдая за ними, В. Обручев зафиксировал свои наблюдения: « Одиночная выправка в обоих эскадронах хороша. Ружейные приемы делаются по-драгунски. Равнения, повороты, перемены шага, как и все приемы ротного учения вполне удовлетворительны. Лагерная служба и разводы производились в точности »3. Таким образом, инспектор в конце 1840-х гг. оценил учебное заведение со всех точек зрения: воспитательной, образовательной и фронтовой, вполне удовлетворительно. Его протокол о результатах инспекции читается как агитационный материал для абитуриента, не определившегося с выбором учебного заведения. Прочитав его, сразу возникает желание сюда поступить и учиться именно здесь.
Список литературы Оренбургский кадетский корпус во второй половине 1840-х гг.: особенности обучения воспитанников и кадрового состава учреждения
- Гордеев Ю.М. Оренбургское Неплюевское военное училище во второй половине 1830-х гг. // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2024а. № 2 (50). С. 177-203. https://doi.org/10.32516/2303-9922.2024.50.11.
- Гордеев Ю.М. Проблемы основания Оренбургского Неплюевского военного училища в первой четверти XIX в. // Сибскрипт. 2024б. Т. 26, № 3. С. 345-361. https://doi.org/10.21603/sibscript-2024-26-3-345-361.
- Гордеев Ю.М., Карпинец А.Ю. «Доставить этому отдалённому краю просвещённых чиновников»: роль П.К. Эссена и П.П. Сухтелена в становлении Оренбургского Неплюевского военного училища (1825-1834 гг.) // Военно-исторический журнал. 2024. № 7. С. 106-116.
- Матвиевская Г.П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Очерк истории : монография. М., 2016. 174 с. https://doi.org/10.17513/np.175.
- Семёнов В.Г., Семёнова В.П. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус: история в лицах. Оренбург, 2017. 591 с.