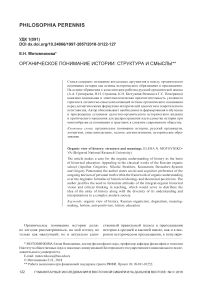Органическое понимание истории: структура и смыслы
Автор: Мотовникова Елена Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 3 (45), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит изложение актуальных аргументов в пользу органического понимания истории как основы исторического образования и просвещения. На основе обращения к классическим работам русской органической школы (А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова, К.Н. Бестужева-Рюмина и Г.С. Померанца) показана социальная и эпистемологическая предпочтительность уходящего горизонта личностно-смыслополагающей истины органического понимания перед догматическими формулами исторической идеологии и теоретического позитивизма. Автор обосновывает необходимость формирования в обучении и просвещении установок целостно-органического исторического видения и критического мышления для распространения идеи единства истории при многообразии ее понимания и трактовок в сложном современном обществе.
Органическое понимание истории, русский органицизм, догматизм, смыслополагание, холизм, антипозитивизм, историческое образование
Короткий адрес: https://sciup.org/170175766
IDR: 170175766 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Органическое понимание истории: структура и смыслы
Органическое понимание истории должно сегодня рассматриваться, на мой взгляд, не только как наилучший, но и актуально един- ственный правильный подход в преподавании истории в средней и высшей школе, как и в широком историческом просвещении, в популяри- зации исторических знаний через литературу и СМИ. Если в работе профессиональных историков разработка исторических теорий («моделей развития»), по-видимому, неизбежна, то для «потребителей» исторического знания никогда не следует превращать историю в ее противоположность – теорию (в рамках классического эпистемологического противоположения логического и исторического), при условии, что мы видим в истории инструмент развития национального и гражданского сознания и самосознания, а не разжигания страстей гражданской распри и идеологической (информационной) войны.
Органическое историческое понимание, известное с античных времен (аристотелевский телеологизм), приобрело особую значимость в Новое и Новейшее время как противовес волне позитивизма, накрывшей исторические науки, как такая метаисторическая позиция, которая принципиально отвергает общезначимость любых теоретических моделей (монофакторных или полифакторных) объяснения таинственных в своей глубинной основе процессов жизни, идет ли речь о биографии частного человека (личности, живущей свою жизнь в поле индивидуальной свободы и ответственности) или о коллективном историческом субъекте (органической культурно-национальной общности), также необъяснимом вполне и непредсказуемом в своей целостной судьбе в мире.
Органическое мышление, вопреки все еще распространенным позитивистским ошибочным его истолкованиям, несводимо ни к системному подходу, ни тем более к пресловутой «биологической метафоре» (вторичной по отношению к философской идее органического целого). Наиболее важные структурные основы органического мышления как особенного, специфического стиля научного мышления (Б. Пру-жинин), составляют установки, известные в философии как холизм (или холистичность), телеологизм, познавательный кеносис и теоретический скепсис. Это означает, что недоверие к рассудочному познанию, склонному к абстрагирующей аналитичности, мнимым следованиям и поспешным обобщениям, органический мыслитель направляет прежде всего на себя самого (внутренняя полемичность), постоянно подвергая свои собственные, как и чужие, концептуализации испытаниям контраргументами, опровержениями «от противного». В неисчерпаемой событийности исторического предмета познания никто не может быть уверен ни в чем со степенью очевидности или верифицирую-щей/фальсифицирующей наглядности, но если испытания сомнением (Р. Декарт) выдержаны, то результат познания следует признать заслуживающим внимания и включения в более широкий контекст знания, даже если это потребует серьезного пересмотра традиции, полемики с устоявшимися представлениями и образом мыслей. В этом скепсисе и кеносисе исторический органицизм обнаруживает свою научную состоятельность, познавательную серьезность, проявляющиеся как последовательное и твердое эпистемологическое самоограничение.
Что же касается способов приращения знания и углубления понимания, то есть творческого познавательного начала, то органическое исследование стремится, во-первых, принимать в качестве значимых именно специфические, оригинальные черты, проявившиеся уже как характерные (индивидуализирующие) для данного изучаемого исторического феномена, и искать в его прошлом истоки («зародыши», «зерна», «семена» и т. п.) этого своеобразия; а во-вторых, не замыкать все внимание на отдельных, пусть даже самых ярких, чертах, но стараться учесть взаимовлияния разных характеристик внутри исторического целого и воздействий на него извне, составить целостный образ, выявить исторические связи («корни») его взаимоотношений с большим миром (с «почвой» и «средой»), в котором он, как раз в силу своего своеобразия, играет некую органически важную роль. Обилие биологических метафор в описании методов органического исторического исследования говорит только о том интуитивно очевидном факте, что для формирования новых понятий о живых исторических связях и процессах лучше подходит лексический материал языка биологии, чем физики или математики. И хотя никаких принципиальных запретов в этом процессе научного словотворчества не существует, стилистические смысловые предпочтения сразу дают понять, с какой парадигмой исторического мышления мы имеем дело в данном конкретном тексте (описываются «движущие силы» и «причины» или «духи» и «вихри» русской революции, например).
Таким образом, в органическом историческом описании и/или исследовании мы несколько раз, движимые исследовательским интересом и упомянутым скепсисом, меняем масштаб целого и ракурсы его рассмотрения, сам рассказ ведем неповторимым (не методическим) путем, не зная заранее не только конечного пункта, но и того, не придется ли вернуться и переписать какую-то часть истории из-за открывшихся новых значимых деталей (сколько раз переписываются биографии великих людей, хроники жизни которых известны, кажется, поминутно).
Такая генетическая цельность и связность повествования, историческая в узком смысле слова, есть структура, вызывающая порождение смысла, наводящая и исследователя-рассказчика, и читателя-реципиента на телеологическое видение исторического процесса. Смысл как мысль о самом главном в некой истории не задается здесь теоретически, в начале, и не следует в конце как логический вывод или обобщение, а рождается как ответ на вопрос о смысле – когда, если, поскольку и как этот вопрос задается; органический исторический текст – это подлинно открытая структура.
Телеологизм в истории вариативен и полемичен: вспомним версии смысла российского исторического примера перед лицом западной цивилизации («Европы»), извлеченные из его существенно органического рассмотрения П.Я. Чаадаевым, В.С. Соловьевым и Н.Я. Данилевским в XIX в. (можно специально обратить внимание на то, что даже при пересказе этих концепций непременно используются вопросные тропы: «Чаадаев задается вопросом…», «Данилевский задается вопросом…») и вновь актуальные в наши дни (если мы задаемся этими же вопросами). Это полемическое многообразие само по себе органично для исторического познания, как и для научного исследовательского мышления в целом, в отличие от догматизма теоретических схем – «однониточных теорий» (Г. Померанц). «Анти-органические», сознательно абстрагирующиеся от своеобразия исторических индивидуальностей обобщающие модели истории продолжают появляться и сегодня, как, например, теория технико-информационного развития (прогресса), в которой теоретически преодолеваются (архаизируются) факторы национальной культуры и естественного человека в качестве основных, определяющих факторов исторического развития (так или иначе принимаемых во внимание в классическом марксистском учении о тотальной классовой борьбе и глобальном коммунистическом будущем). Случайно ли, что на пике признания информационного подхода в истории (если считать несомненным признаком такого признания тривиализацию концепции «постиндустриального / информационного общества»
через учебные программы вузов и школ) в мире заговорили о кризисе, откате и даже «закате глобализации»? Более того, под разговоры об архаичности этнического гражданства и национальных культур мы видим, как депривация национального оборачивается «восстанием архаики» (В. Пастухов) в самых грубых, доциви-лизованных, негуманных и антигуманных ее проявлениях.
Об ошибочности и опасности лишения истории надежных традиционных оснований страстно-обеспокоенно писал русский органи-цист А.А. Григорьев. Культ линейного развития, умственный (теоретический) прогрессизм, перенося понятие об идеале и совершенстве человека в бесконечное будущее, оставляет его в настоящем без всякой нравственной опоры, с ложным представлением о своем «величии» по отношению к людям прошлого и в ожидании «поглощения» еще «яснейшим» будущим (см.: [1, c. 46–47]). Именно воплощение вечных и абсолютных идеалов, а не текучки современной жизни, является, согласно мысли Григорьева, смыслом настоящего искусства – художественной вершины и достойной цели исторического творчества человека, – и этими же вечными идеалами-ценностями красоты, правды и любви измеряется совершенство произведения («рожденного», а не «сделанного») любой эпохи, а совсем не верностью изображения «натуры» историчной общественной жизни или теоретических представлений его автора о должном и сущем. Кризис современной эстетики в этом смысле вполне соответствует неорганическому характеру современного (в специальном смысле этого слова) искусства, живущего в параллельном мире по отношению к классической исторической традиции.
Об этой нравственной индифферентности внеисторического, внетрадиционного конструирования социальной и ментальной реальности размышлял уже в ХХ в. Г.С. Померанц. Универсальные логические формы представления понятий о виртуальной реальности феноменов научного предметного поля могут составлять сколь угодно протяженные ряды конструкций разной сложности (от геометрических и механических до синергетических), между которыми нет никакой иерархии смыслов (если не подменять человеческие смыслы так называемыми «уровнями сложности», или более ранними «формами движения материи» (Ф. Энгельс, Б. Кедров и др.), или их предшественницей, иерархической «лестницей наук» О. Конта).
Впитав наукообразность в процессе институализированного образования, мы привычно не замечаем и не удивляемся, что в шаблонных теоретизирующих описаниях («объект – предмет – метод») не видно ни живой преемственности исследования, ни оригинального творчества мысли – они не самобытны, не рождены из себя и для саморазвития, а «сделаны» (Ап. Григорьев), сконструированы, как «винтики» или «клеточки», всецело подчиненные универсальному космическому целому (холизм без телеологии). Если же стряхнуть с теоретической схемы обаяние позитивистской формальной простоты и красоты и задать в отношении исторической идеи вопрос, в чем ее глубина и мудрость, действительно ли «тайна прибавочной стоимости» является ключом к разгадке великой тайны истории, а прогресс производительных сил закономерно избавляет людей от зла и унижений, ответ будет, скорее всего, грустным и ироническим. «Все бедствия прошлого были объяснены: люди просто не понимали, что дважды два четыре. Теперь они поняли это, и впереди замаячило светлое будущее» [2].
Теоретизм и методологизм как стилистические мыслительные установки по существу своему противоречат свободному и личностно заинтересованному, внимательному органическому разглядыванию, всматриванию, «вчув-ствованию» в живое и его историю. «Вообще совершенно неправильно рассматривать органические категории как какие-то заранее составленные образы или мнения, к которым мы потом стараемся пригнать все, что нам ни встретится» [3, c. 120–121]. Органическое понимание истории изначально исходит из автономного самоопределения человека и его отдельной жизни (исторической личности) и его самобытного (Н. Страхов), свободного, самооб-условленного, искреннего и ответственного поступка (М. Бахтин), перенося эти субъективные характеристики свободы и ответственности с отдельного «я» на коллективные исторические «мы» (О. Розеншток-Хюсси), когда такое коллективное сознательное «поступание» имеет место, и общность проявляет себя как ответственный исторический субъект (в меру общей сознательной целеустремленности, свободы и ответственности). Традиция русского органицизма, укорененного в особой исторической почве специфической религиозности русской философии, сохраняет глубину и высоту Григорьевской мысли о том, что подлинная основа жизни общества и его истории, а также и осно- вание для истинного исторического суждения, и адекватный критерий для оценки развития (как степени приближения к своему совершенному состоянию) – не теории, стремящиеся, сменяя друг друга, выразить «отвлеченный дух человечества», а единый, всем эпохам понятный, боговдохновенный идеал человеческой души – «идеал правды, красоты и любви» [1, с. 47], познаваемый целостным органическим видением.
Возвращаясь к основной мысли этой статьи, хочу еще раз подчеркнуть: органическое понимание истории – единственно адекватная нашему времени установка преподавания истории в учебных заведениях и ее популяризации через СМИ. Историческое знание, общее образование воспринимается сегодня общественными группами как полный аналог самосознания (разума) отдельного человека, и история снова стала «формой общественного сознания», ареной жарких идеологических сражений. В ситуации явно возросшей неопределенности ближайшего будущего у людей обостряется не только чувство самосохранения, но и сознательная забота об адекватности понимания самой этой ситуации и своего в ней места и участия. Сегодня, как и в тревожной переломной обстановке рубежа XIX–XX вв., можно повторить слова К.Н. Бестужева-Рюмина: «У всех народов мы видим стремление к полному и всестороннему изучению своего настоящего и прошедшего; то, что когда-то считалось признаком учености или тайною канцелярии, делается теперь общим достоянием. Факты исторические, статистические, этнографические, постоянно приводятся в разговорах: ими подкрепляются или опровергаются всякие суждения…» [4, с. 44]. Объемы нынешних продаж исторической литературы нон-фикшн показались бы историкам конца XIX в. просто фантастическими, однако само по себе распространение интереса к исторической литературе еще не означает углубления исторического знания и понимания; здоровый интерес и настоящая заинтересованность должны быть направлены на выяснение исторической истины во всей ее достижимой полноте, а для этого должны быть предприняты личные познавательные усилия, в которых бы реализовалась возможность продвижения к правде свершившегося сквозь мифы и тайны, через деконструкцию разного рода исторических идеологий.
Размышляя о задачах популяризации исторического знания в массах людей, не обладающих специальным историческим образованием, не способных в силу этого к критическому отно- шению к публикуемым документам и статьям, зачастую нацеленным на пропаганду, «проведение той или другой мысли, и притом так, что мысль выражается нередко только в подборе фактов, в более ярком освещении той стороны, которую более желательно осветить» [4, с. 45], К.Н. Бестужев-Рюмин как будто писал о нас (что дает нам лишнее опровержение теории умственного и нравственного прогресса в ученых кругах). Как опытнейший педагог и публицист, он очень точно формулировал главную проблему исторического просвещения: сталкиваясь с историческим нарративом или документом (особенно это касается, конечно, недавнего прошлого своего народа, всегда наименее исследованного и наиболее мифологизированного), обычный человек полагается на свой здравый смысл и «банальную эрудицию», из-за чего ему «приходится или принять совершенно ложное, но искусно сочиненное известие, или отвергнуть то, что действительно было, и что кажется невероятным…» [4, c. 46], а невероятное в форме неожиданного встречается в истории постоянно. При этом даже совершенно верно изложенный факт или документ, «вырванный из своей действительной обстановки, … может нередко вести к совершенно ложным заключениям» [4, с. 47]. Историка здесь больше всего беспокоит и возмущает имеющая место практика выдергивания и передергивания фактов, сокрытие части информации с манипулятивными целями, и его неприятие вполне понятно. Но что значит «действительная обстановка»? Какова мера полноты и достаточности контекстуального сопровождения фактов, чтобы все вместе исключило ложное истолкование прочитанного? Если люди способны противоположным образом истолковать одно и то же событие, свидетелями которому они явились, то какой контекст и какое истолкование принимать за исторически достоверное? К.Н. Бестужев-Рюмин писал, что «такие объяснения дает только цельное, связное изложение» [4, с. 47]. Но ведь именно философско-исторические, модельно-теоретические и просто идеологические схемы способны создавать видимость такой цельности и связности, какая просто недосягаема для всегда противоречивой и разорванной живой действительности. Как создать убедительную цельность и связность без симпатий и антипатий к персоналиям, без домыслов и без упрощения отношений и событий?
На опасность строгой научной формы для исторического знания много раз указывал
Список литературы Органическое понимание истории: структура и смыслы
- Григорьев А.А. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства // Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 31-69.
- Померанц Г.С. Однониточные теории // Григорий Померанц и Зинаида Миркина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. pomeranz.ru/p/pub_one_thread.htm
- Страхов Н.Н. Органические категории // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 116-124.
- Бестужев-Рюмин К.Н. Задачи популяризации знаний. (Неизданная статья К.Н. Бестужева-Рюмина) // Исторический вестник. 1897. Т. LXVIII. С. 42-47.