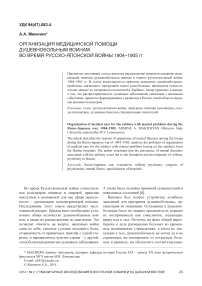Организация медицинской помощи душевнобольным воинам во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
Автор: Макичян Армине Артуровна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История российских регионов
Статья в выпуске: 2 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
Предметом настоящей статьи является рассмотрение вопросов оказания медицинской помощи душевнобольным воинам в период русско-японской войны 1904-1905 гг. В статье анализируются причины появления душевнобольных, проблемы, связанные с призрением такого рода больных, приводятся статистические данные из материалов госпиталей в Харбине. Автор приходит к выводу о том, что распространенность душевных заболеваний, связанных с военными событиями, привела к формированию и развитию в России такой области науки, как военная психиатрия.
Русско-японская война, эвакуация, военная психиатрия, съезды психиатров, душевные болезни, специализация госпиталей
Короткий адрес: https://sciup.org/170175506
IDR: 170175506 | УДК: 94(47).083.4
Текст научной статьи Организация медицинской помощи душевнобольным воинам во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
Во время Русско-японской войны отечественная психиатрия впервые в мировой практике выступила в незнакомой для нее сфере деятельности – организации психиатрической помощи. Исследование этого опыта представляет несомненный интерес. Прежде всего необходимо установить общее количество душевнобольных воинов, а также их распределение по диагнозам. Это позволит ответить на вопрос, насколько война сама по себе, тяжелые условия походного быта, оторванность от привычных занятий, с одной стороны, и перманентное чувство страха – с другой, способствовали развитию душевных заболевания.
А также была ли война причиной сумасшествий и навязчивых состояний [8].
Важным был вопрос устройства лечебных заведений для призрения душевнобольных, организация их эвакуации. Отношение к душевнобольным было не лишено предвзятости, нередко их воспринимали как симулянтов, желающих вернуться в тыл. Поэтому, на фоне общей неразберихи в деле размещения больных во временных медицинских учреждениях, а затем их эвакуации в тыл, душевнобольных не могли да и не стремились ни изолировать от остальных больных и раненых, ни обеспечить соответствующи- ми условиями содержания и лечения. Между тем некоторые измененные состояния вполне могли корректироваться, если бы к больным относились более внимательно. Вообще, из опыта русско-японской войны отечественная психиатрия вынесла убеждение, что основным принципом организации психоневрологической помощи в условиях военного времени является приближенность сил и средств медицинской помощи к передовым этапам ее оказания [23].
В этой связи представляется важным проанализировать опыт некоторых врачей, в первую очередь Г.Е. Шумкова, который не только серьезно исследовал различные измененные состояния больных, анализировал их, собирал статистический материал, анкеты и опросные листы, тщательно следил за душевнобольными пациентами Харбинского госпиталя, но и отдал много сил после войны осознанию полученного опыта [19].
Следует отметить, что военная психология к началу русско-японской войны была еще относительно новой отраслью в медицине [10, c. 52–53.], поэтому едва ли не самым большим достижением можно назвать признание душевнобольных воинов действительно больными – в большинстве случаев к ним продолжали относиться как к симулянтам, подвергали насмешкам и издевательствам.
Устройство специальных лечебных заведений для категории душевнобольные встречало большие затруднения. С передовых позиций больные доставлялись в полевой психиатрический приемный покой, устроенный сначала в Мукдене, а потом в Гунчжулине. Заведывание этим покоем было поручено врачу-психиатру, в обязанность которого входило направление поступавших больных в Харбин. В распоряжении заведовавшего покоем психиатра было восемь санитаров, знакомых с уходом за душевнобольными. Из их числа назначался персонал для сопровождения больных в Харбин [13, с. 475]. Затем душевнобольные воины размещались в различных госпиталях в общих палатах с другими больными, что осложняло работу госпиталей [13, с. 466–467], поэтому решено было концентрировать этот контингент в одном месте. К началу войны на Дальнем Востоке существовало всего одно специальное заведение для душевнобольных воинов – Читинская войсковая больница. Далее в течение почти всего 1904 г. функционировало психиатрическое отделение при Харбинском сводном госпитале № 1. Первый Харбинский сводный госпиталь состоял, как и другие подобные лазареты, из четырёх бараков и ряда строений, где размещались офицерские отделения, канцелярия, квартиры врачей и служащих, приёмная и т.д. [6, с. 241]. Госпиталь находился в ведении доктора медицины Глаголева, а отделением для душевнобольных, состоявшим из коридора и шести палат, заведовал петербургский психиатр, известный врач, доктор медицины Е.С. Боришпольский [6, с. 240]. Позже для душевнобольных был отведен второй павильон и прикомандировано несколько врачей-специалистов. Большой проблемой была нехватка помещений и их теснота. Один из врачей, осмотревший психиатрическое отделение при 1-м сводном госпитале в Харбине, оставил такое описание: «Помещение это не имело никаких приспособлений, в нем не было даже ванн. О рациональном лечении и призрении душевно больных здесь не могло быть и речи» [13, с. 476]. Часто отведенный домик не вмещал душевнобольных, тогда врачам приходилось переводить их в общие палаты [33, с. 596].
С осени 1904 г. уполномоченный Красного Креста по психиатрическим вопросам на Дальнем Востоке, начальник психиатрического отделения варшавского Уяздовского военного госпиталя П.М. Автократов начал организовывать отдельный психиатрический госпиталь в Харбине и специальные эвакуационные поезда для перевозки психически больных на долгосрочное лечение.
Таким образом, в начале войны были отмечены нехватка квалифицированного медицинского персонала, недостаток специально устроенных помещений для призрения психически больных воинов и нежелание выделять их в самостоятельную категорию больных, нуждающихся в изоляции.
Говоря о статистике, можно привести следующие данные: за период существования психиатрического отделения при сводном госпитале число душевнобольных воинов составило 228 чел. (офицеров 70, нижних чинов 158) [13, с. 476]. В конце 1904 г. дело приема, лечения и эвакуации психических больных было передано в ведение Красного Креста, но под наблюдением психиатра военного ведомства. Центральный психиатрический госпиталь был устроен в Харбине на 50 душевнобольных (15 офицеров и 35 нижних чинов) и включал в себя следующее: наблюдательное отделение для вновь поступавших больных и буйных (последним было отведено 7 изолированных комнат); отделение для более спокойных нижних чинов; офицерское отделение (7 комнат). Персонал госпиталя состоял из 10 врачей (4 врача Красного Креста и
6 – военного ведомства). Из этих 10 врачей находились при госпитале только 2 или 3, остальные назначались сопровождать душевнобольных при их эвакуации в Россию. Кроме того, госпиталь располагал: 10 фельдшерами и 4 сестрами милосердия, 40 служителями и 25 людьми дворовой команды [13, с. 476–477]. Со дня открытия Центрального психиатрического госпиталя в Харбине, т.е. с 15 декабря 1904 г. по 1 января 1906 г., прошло лече- ние душевнобольных офицеров 266, нижних чинов 986. За время с 1 января по 18 марта 1906 г. (день закрытия госпиталя) лечилось офицеров 10, нижних чинов 86; всего офицеров и нижних чинов 1347 чел. [13, с. 477]. Для наглядности приведем таблицу (см. Табл. 1), отражающую данные о количестве душевнобольных с 15 декабря 1904 г. (со дня открытия Харбинского госпиталя) по 18 марта 1906 г. [1, с. 1–2] .
Таблица 1
Данные о пациентах Харбинского госпиталя, 15.12.1904-18.03.1906
|
Название болезней |
Прибыло |
Выздоровело |
Переведено в другие лечебные заведения |
Умерло |
||||
|
Офицеры |
Нижние чины |
Офицеры |
Нижние чины |
Офицеры |
Нижние чины |
Офицеры |
Нижние чины |
|
|
Эпилептические психозы |
13 |
292 |
- |
- |
13 |
289 |
- |
3 |
|
Истерические психозы |
4 |
29 |
2 |
- |
2 |
29 |
- |
- |
|
Неврастенические психозы |
30 |
18 |
10 |
- |
20 |
39 |
- |
- |
|
Дегенеративные психозы |
18 |
28 |
- |
- |
18 |
28 |
- |
- |
|
Маниакально-депрессивные психозы |
- |
18 |
- |
- |
- |
18 |
- |
- |
|
Маниакальное возбуждение |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
Меланхолия |
3 |
17 |
- |
- |
3 |
17 |
- |
- |
|
Спутанность |
1 |
46 |
- |
- |
1 |
74 |
- |
2 |
|
Галлюцинаторный бред |
4 |
36 |
- |
1 |
4 |
35 |
- |
- |
|
Острое нелечимое слабоумие |
- |
15 |
- |
- |
- |
15 |
- |
- |
|
Раннее слабоумие |
5 |
47 |
- |
- |
5 |
47 |
- |
- |
|
Кататония |
4 |
27 |
- |
- |
3 |
26 |
1 |
1 |
|
Первичное помешательство |
11 |
38 |
- |
- |
11 |
18 |
- |
- |
|
Вторичное слабоумие |
- |
5 |
- |
- |
- |
5 |
- |
- |
|
Алкогольные психозы |
92 |
113 |
13 |
3 |
79 |
110 |
- |
- |
|
Острый алкоголизм |
15 |
26 |
15 |
21 |
- |
2 |
- |
- |
|
Периодические психозы |
2 |
7 |
- |
- |
2 |
7 |
- |
- |
|
Психозы после инфекционных заболеваний |
5 |
51 |
- |
- |
4 |
49 |
1 |
2 |
|
Психозы при Базедовой болезни |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Психозы после отравления бобовым маслом |
- |
2 |
- |
2 |
- |
2 |
- |
- |
|
Травматические психозы |
8 |
34 |
1 |
- |
7 |
34 |
- |
- |
|
Слабоумие вследствие органического заболевания мозга |
9 |
29 |
- |
- |
4 |
23 |
5 |
6 |
|
Прогрессивный паралич |
29 |
45 |
- |
- |
29 |
41 |
- |
4 |
|
Сифилис мозга |
- |
2 |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
|
Врожденное слабоумие |
- |
36 |
- |
- |
36 |
- |
- |
- |
|
Психозы вследствие истощения |
- |
2 |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Предстарческое слабоумие |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
266 |
1044 |
45 |
34 |
214 |
983 |
7 |
10 |
Нужно отметить, что средние потери в связи с психическими расстройствами составили 2–3 чел. на 1000 чел. Доктор П.М. Автократов отмечает, что каждый душевнобольной проводил в Харбинском госпитале в среднем 15–16 дней [1, с. 4–5].
После заключения мира и закрытия Центрального психиатрического госпиталя, в Харбине было открыто психиатрическое отделение при сводном Харбинском госпитале № 6 [5, с. 102]. В других сводных госпиталях Харбина число душевнобольных было относительно небольшим, так, к примеру, в 16-й Харбинский сводный госпиталь за два года его деятельности поступил всего один душевнобольной воин (Российский государственный военно-исторический архив, далее – РГВИА. Ф. 16241. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 2–5, 45–47, 49–52, 58–59, 66–68, 142–144, 152–154, 188–189, 196–198, 204–206, 213–215, 220–222).
Итак, за второй год войны число душевнобольных возросло сравнительно с первым годом войны примерно на 41 % [15, с. 263]. Такая динамика, очевидно, была связана с тем, что усиливалось истощение воинов, происходило все большее разочарование в войне, многие эвакуированные отправлялись обратно из тыла на театр боевых действий, в связи с этим их состояние ухудшалось, не было должного ухода за больными.
Стоит отметить и тот факт, что многие из военнослужащих были вызваны из запаса уже будучи больными [15, с. 270]. Врачами отмечалось большое количество больных с эпилептическими психозами, вследствие войны их припадки учащались и усиливались [6, с. 241]. К непосредственно вызываемым войной психическим заболеваниям относились те, которые происходили от травматического повреждения головы и спинного мозга [6, с. 241]. Врачи описывали состояние бреда, появлявшегося у подобных душевнобольных воинов: «Из случаев бреда, которые я наблюдал, только два было типичных бреда – один у штабс-капитана Z – который в бреду бил японцев, одного больного, а другого маленького, которые постоянно являлись перед ним, а второй – у одного 19-тилетнего добровольца, которому казалось, что японцы ползут к нему под ноги и он давит их целыми массами» [6, с. 245–246]. Другой пример таких навязчивых состояний приводит П.М. Автократов: «Больной заболел брюшным тифом в августе… стал высказывать отрывочные бредовые идеи преследования, быстро забывает свой бред. Резкое ослабление памяти. Не знает, где он находится, сколько дней в госпитале и сколько времени он вообще болен. Ослабление интеллекта. Выражение лица тупое» [1, с. 2]. Состояние бреда характеризуется явлениями резкого психического угнетения, паранойяльными явлениями, многие врачи отмечают, что у больных наблюдается тупое выражение лица с потухшим взглядом, стремление к уединению, обилие «иллюзорных и галлюцинаторных явлений устрашающего характера» [28, с. 49]. Вот что пишет доктор Шумков: «Во время боя солдатик-артиллерист стоял при ящике снарядов и подавал их при первом требовании. Выполнял свою обязанность весьма добросовестно все время. Кругом его летали и ежеминутно разрывались гранаты. Окончен бой… канонада стихла. Солдатик берет револьвер и кончает жизнь выстрелом в грудь» [28, с. 49]. Паника, совмещенная с бредом, во время боевых действий тоже оказывала воздействие на ход сражений: «У края валялись стащенные с дороги два солдатских трупа, истоптанные колесами и копытами, покрытые пылью и кровью. А где же японцы? Их не было. Ночью произошла совершенно беспричинная паника. Кто-то завопил во сне: «Японцы! Пли!» – и взвился ужас. Повозки мчались в темноте, давили людей, сваливались с обрывов. Солдаты стреляли в темноту и били своих же» [4, с. 270].
Превалирующим психозом военного времени являлся алкоголизм, он только отчасти зависел от условий военного времени. В большинстве случаев этот психоз был связан с призывом на службу запасных и отставных офицеров или страдающих алкоголизмом представителей действующей армии [15, с. 271]. На преобладание хронических форм душевного расстройства влияло и то, что во время мобилизации войск не обращали внимания на такие серьезные болезни, как эпилепсия, хронический алкоголизм и хронические заболевания головного мозга [13, с. 479]. Особого внимания заслуживает психоз истощения, который развивался исключительно из-за сложностей военно-походной жизни [33, с. 874].
Таким образом, душевнобольных воинов в годы русско-японской войны условно можно разделить на две группы: прибывших на войну уже больными и тех, кто пострадал непосредственно в ходе боевых действий. Врачи впервые столкнулись с таким количеством душевнобольных, многие состояния им были незнакомы, вместо того, чтобы лечить их, приходилось диагностировать и описывать состояние воинов непосредственно в условиях боевых действий.
Для организации помощи душевнобольным на флоте во время русско-японской войны 1904– 1905 гг. в составе обеих эскадр также находились плавучие госпитальные суда, которые оказывали помощь не только раненым, но и душевноболь- ным. Воинов, страдавших душевными болезнями, на флоте было тоже много, их состояние обострялось еще и ввиду морской болезни, эвакуации проводились на кораблях, многие врачи и больные погибали [12, с. 54].
Отдельно стоит упомянуть об эвакуации душевнобольных. Недостатков в ее организации наблюдалось очень много. К примеру, вагоны для эвакуации далеко не всегда были приспособлены для душевнобольных. По свидетельствам врачей, они были довольно неудобные, без каких-либо решеток, очень тесные для того числа больных, которые в них перевозились [13, с. 477]. Только в июле 1905 г. специально для перевозки душевнобольных были оборудованы восемь вагонов: в окнах вставлены корабельные стекла, каждый вагон имел изолированные помещения [13, с. 477]. Нередко больных заставляли пересаживаться на станции Маньчжурия и в Иркутске, где им нужно было переходить в менее подходящие вагоны, например, арестантские, в каждом из них помещалось 12 или 14 больных [1, с. 8–9]. Эвакуируемых сопровождали: 1 врач-психиатр, 2 сестры милосердия, 2 фельдшера, 4 санитара и команда из нижних чинов-конвоиров [13, с. 477]. Персонал санитаров зачастую совершенно не был подготовлен к задаче ухода за душевнобольными. Вагоны (один офицерский, один для нижних чинов) прицеплялись к санитарному поезду, откуда и получали довольствие. Но бывали случаи, когда вагоны прицеплялись к обычному поезду и даже к товарному; тогда, конечно, довольствие не могло быть таким, как в санитарных поездах [9, с. 123]. Часто душевнобольные эвакуировались вместе с другими больными. Но, как отмечает, доктор Станиловский, делалось это ввиду безвыходного положения [20, с. 558]. Для душевнобольных, эвакуированных из Харбина, которые были не в состоянии следовать далее в Россию вследствие обострения болезни, были устроены этапные психиатрические пункты, один в Красноярске, другой в Омске, каждый для десяти больных [13, с. 477].
Как и в случае с призрением больных с душевными расстройствами, сказались неподготовленность к войне на столь дальнем расстоянии, недостаток врачей и другого медицинского персонала, несогласованность действий между различными учреждениями, в связи с чем эвакуация больных еще больше затруднялась.
В самой России к уходу за душевнобольными зачастую относились невнимательно. Так, доктор Крейндель отмечает такой факт: душевнобольные, эвакуированные из Харбина в Россию, возвращались обратно в действующую армию, откуда вновь попадали в Центральный психиатрический госпиталь и снова эвакуировались в Россию. Повторному возвращению было подвергнуто: 8 офицеров и 2 нижних чина [13, с. 479]. Ярко подтверждает такого рода отношение следующий случай: «Больной солдат М., страдающий тяжелой формой эпилепсии, доставленный из Харбина в Московский военный госпиталь, через несколько дней был выписан из госпиталя и отправлен домой без всякого надзора и присмотра» [13, с. 479]. Согласно данным доктора Автократова, общее число душевнобольных, эвакуированных в Москву в 1905 г., составило 1349 чел. [1, с. 7]. В 1906 г. было только пять эвакуаций: одна в январе, две в феврале и две в марте. Эвакуировано за это время было 17 офицеров и 127 нижних чинов [1, с. 7]. Каждая эвакуация продолжалась больше месяца, организовывалась 3–4 раза в месяц. Встречались и случаи самоубийств во время транспортировки [1, с. 8]. Особое затруднение вызывала эвакуация душевнобольных из Порт-Артура (их число составляло 12 чел.), ввиду отсутствия приспособленных вагонов первоначально было решено отказаться от дальней эвакуации их в пределы Европейской России, и больные были эвакуированы в Харбин, где их разместили в 1-м сводном госпитале [5, с. 125]. Для исправления неудовлетворительной эвакуации душевнобольных устраивались и специальные заседания, на третьем заседании Военно-санитарного общества Харбина делал доклад доктор Г.Е. Шумков, ставя вопрос об организации эвакуации душевнобольных, но конкретные решения тогда не были приняты [14, с. 875].
Итак, организация эвакуации душевнобольных с Дальнего Востока может быть разделена на два периода. Первый период охватывал время, когда вся эвакуация больных была обязанностью военного ведомства, – от начала военных действий до декабря 1905 г.; второй – от декабря до конца войны, когда эвакуация и призрение душевнобольных перешли в сферу деятельности Красного Креста. В первый период организация эвакуации проводилась без специального персонала, как врачебного и фельдшерского, так и служительского. В результате наблюдалось увеличение количества несчастных случаев. Самым крупным недостатком этой эвакуации была частая смена персонала. Каждый раз приходилось обучать его заново [33, с. 856]. Как сообщает доктор Л.Ф. Якубович, председатель эвакуационной комиссии в Харбине прилагал все усилия к тому, чтобы исправить недочеты по эвакуации. Вот отрывок из рапорта начальнику санитарной части Маньчжурской армии: «Подпол- ковник П. срочной телеграммой донес о задержке им поезда на ст. Маньчжурия, ввиду требования местного железнодорожного начальства переменить арестантские вагоны на простые вагоны 4 класса, я согласно заключению Вашего Превосходительства заручился разрешением начальника военных сообщений о беспрепятственном пропуске вагонов и срочно телеграфировал подполковнику П.; тем не менее, вагоны почему-то пропущены не были, и коменданту поезда пришлось устроить своими средствами деревянные решетки в вагонах 4 класса» [33, с. 870].
По сообщению доктора Якубовича, начальники санитарной части, военных сообщений, эвакуационной комиссии и уполномоченный Красного Креста – все стремились к улучшению эвакуации больных и все хотели быстро исправить те крупные недостатки, которые существовали на Забайкальской дороге [33, с. 871]. Но старания представителей крупных отделов ни к чему не приводили: оказалось, что арестантские вагоны на Забайкальской дороге находились в распоряжении тюремного ведомства, которое на просьбу уступить свободные вагоны ответило отказом [33, с. 872]. Иными словами, большой проблемой в медицинском деле была несогласованность действий между различными учреждениями, а кроме того и личное безразличие некоторых начальствующих лиц. Недостаток в организации эвакуации и призрения душевнобольных и других воинов заключался в том, что вопросы медицинской помощи находились в ведении военных, занятых решением совершенно иных задач, не касавшихся медицины.
Количество душевнобольных за время войны оказалось в полтора раза больше, чем в среднем в мирное время. Объясняется это, с одной стороны, тяготами военной жизни, с другой – тем фактом, что часть запасных солдат являлась в армию с предрасположением к психическим заболеваниям, а иногда и совершенно больными. Кроме того, сказывался и тот факт, что военные действия велись на совершенно незнакомой территории, с незнакомым противником, многим не были ясны причины русско-японской войны. К тому же организации психиатрической помощи ближе к позициям проведено не было. Основное внимание уделялось не столько совершенствованию стационарных методов лечения в психиатрических учреждениях тыла страны, сколько оказанию помощи душевнобольным воинам непосредственно в районе боевых действий. Затруднения вызывала и эвакуация больных. Основным недостатком начального периода войны явилось отсутствие необходимого количества медицинского персонала и специализированных психиатрических отделений. Практическая психиатрическая помощь в действующих частях ограничивалась в основном эвакуацией больных из армейского и фронтового районов в тыловые госпитали страны. Все это привело к появлению новой категории больных, не известной в таких масштабах в предыдущих войнах.
Именно во время русско-японской войны 1904–1905 гг. зарождается отечественная военная психиатрия. Впервые в мировой практике именно российские психиатры организовали психиатрическую помощь военнослужащим на театре военных действий. Что касается исследований в области военной психиатрии в годы русско-японской войны, то стоит отметить, что первые работы появились уже после войны. Наибольший вклад в развитие военной психологии внес военный врач, психиатр и психолог, Г.Е. Шумков. В его работах (таких как «Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904–1905», «Психика бойцов во время сражений» и т. д. [24–32]) дается определение военной психологии, отмечаются ее задачи и цели, исследуются психика и поведение воинов в различных условиях боя.
Огромную роль в изучении вопросов военной психиатрии сыграл В.М. Бехтерев [2], являвшийся председателем специальной комиссии Красного Креста, он разработал основы организации психиатрической помощи в русской армии. Особый интерес представляют труды III съезда отечественных психиатров в 1905 г., когда были подведены итоги Русско-японской войны [22]. В частности, сам термин «военная психиатрия» был введен именно на этом съезде.
Говоря о важности исследований в области военной психиатрии, оценивая уроки поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг., «Русский инвалид» указывал на тот факт, что в будущих войнах победу будут определять не снаряды и картечь, не смерть и раны, а нервы. В годы войны и вскоре после нее статьи по военной психологии появляются в журналах «Военный сборник», газетах «Русский инвалид», «Разведчик», в «Военно-медицинском журнале», «Психиатрической газете». Обобщение опыта военной психиатрии периода Русско-японской войны отечественными специалистами позволило разработать принципы психиатрического обеспечения войск во время боевых действий, унифицировать диагностику, дать описание заболеваний, разработать лечение психозов войны; военная психология выделилась в самостоятельную отрасль медицинской науки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА
-
1. Автократов П.М. Призрение, лечение и эвакуация душевнобольных во время русско-японской войны в 1904–1905 годах. СПб., 1906.
-
2. Бехтерев В.М. Будущее психиатрии. Введение в патологическую рефлексологию. СПб.: Наука, 1997.
-
3. Бехтерев В.М. Избранные произведения (статьи и доклады). М.: Медгиз, 1954.
-
4. Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне. М. : Правда, 1986. 560 с.
-
5. Война с Японией 1904–1905 гг. Санитарно-статистический очерк. Петроград: Военная типография, 1914.
-
6. Гейнце Н.Э. В действующей армии. СПб.: Типо-литография «Энергия», 1904.
-
7. Дружинин К.И. Исследование душевного состояния воинов в различных случаях боевой обстановки по опыту Русско-японской войны 1904– 1905 гг. СПб., 1910.
-
8. Жукова Л.В. Психологический фактор как одна из причин поражения России в Русско-японской войне // Человек в экстремальных условиях: историко-психологические исследования. Материалы VIII Междунар. науч. конф., СПб. 12–13 декабря 2005 г.: в 2 ч. / ред. д-ра ист. наук, проф. С.Н. Полторака. Ч. 1. СПб.: Нестор, 2005. С. 143–147.
-
9. Коварский Г.О. Эвакуация в Забайкалье больных и раненых в Русско-Японскую войну // Военно-медицинский журнал. СПб., 1911. № 4. С. 709–742.
-
10. Корчемный П.А. и др. Военная психология: методология, теория, практика. М.: Воениздат. 2010.
-
11. Кравченко B.C. Через три океана. СПб.: Гангут, 2002.
-
12. Кравченко В.С. Очерк деятельности судовых врачей 1-й и 2-й тихоокеанских эскадр в русско-японскую войну 1904–1905 гг. СПб., 1909.
-
13. Крейндель И.С. Обзор болезней в Маньчжурской армии. (По отчетам госпитальных врачей) // Военно-медицинский журнал. 1908. № 7. С. 466–481.
-
14. Обзор деятельности Харбинского военно-санитарного общества // Русский врач. 1905. № 27. С. 875.
-
15. Озерецковский А.И. О душевных заболеваниях в связи с русско-японской войной за второй год ее // Военно-медицинский журнал. 1906. № 10. С. 262–271.
-
16. Осипов В.П. Введение // Психозы и психоневрозы войны. М.; Л., 1934.
-
17. Осипов В.П. Вопросы психиатрической практики военного времени / под ред. В.П. Осипова. Л. : Медгиз, 1941. 220 с.
-
18. Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1907.
-
19. Сенявская Е.С. Психология войн в XX веке: исторический опыт России. М.: РОСПЭН, 1999.
-
20. Станиловский Л.С. Об организации призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке // Русский врач. 1905. № 17. С. 556–561.
-
21. Труды II съезда Отечественных психиатров 1905 года / под ред. И.А. Сикорского. Киев, 1907.
-
22. Труды III съезда Отечественных психиатров 1905 года / под ред. В.М. Бехтерева. СПб., 1911.
-
23. Чудиновских А.Г. Организация становления (развития) психоневрологической помощи и основных научных направлений военной психиатрии и неврологии: дис. … д-ра полит. наук. СПб., 2010.
-
24. Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов после боев // Военный сборник. 1914. № 11. С. 103–126.
-
25. Шумков Г.Е. Неврозы войны // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1906. № 6. С. 1180–1199.
-
26. Шумков Г.Е. Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904–1905. Киев, 1907.
-
27. Шумков Г.Е. Психика бойцов во время сражений. СПб., Б.г.
-
28. Шумков Г.Е. Рассказы и наблюдения из настоящей русско-японской войны. Киев, 1906.
-
29. Шумков Г.Е. Философская покорность судьбе и болезненное малодушие. (Этюд из жизни медиков на войне) // Военный сборник. 1914. № 1/2. С. 107–112.
-
30. Шумков Г.Е. Чувство тревоги, как доминирующая эмоция в период ожидания боя // Военный сборник. 1913. № 5/6. С. 95–100.
-
31. Шумков Г.Е. Эмоции страха, печали, радости и гнева в период ожидания боя // Военный сборник. 1914. № 2. С. 109–118.
-
32. Шумков Г.Е. Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904–1905 гг. Киев: Просвещение, 1907.
-
33. Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904– 1905 гг.) // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1907. № 4. С. 593–597.
-
34. Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904–1905 гг.) // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб., 1907. № 5. С. 856–875.
Список литературы Организация медицинской помощи душевнобольным воинам во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
- Автократов П.М. Призрение, лечение и эвакуация душевнобольных во время русско-японской войны в 1904-1905 годах. СПб., 1906.
- Бехтерев В.М. Будущее психиатрии. Введение в патологическую рефлексологию. СПб.: Наука, 1997.
- Бехтерев В.М. Избранные произведения (статьи и доклады). М.: Медгиз, 1954.
- Вересаев В.В. Записки врача. На японской войне. М.: Правда, 1986. 560 с.
- Война с Японией 1904-1905 гг. Санитарно-статистический очерк. Петроград: Военная типография, 1914.
- Гейнце Н.Э. В действующей армии. СПб.: Типо-литография «Энергия», 1904.
- Дружинин К.И. Исследование душевного состояния воинов в различных случаях боевой обстановки по опыту Русско-японской войны 19041905 гг. СПб., 1910.
- Жукова Л.В. Психологический фактор как одна из причин поражения России в Русско-японской войне//Человек в экстремальных условиях: историко-психологические исследования. Материалы VIII Междунар. науч. конф., СПб. 12-13 декабря 2005 г.: в 2 ч./ред. д-ра ист. наук, проф. С.Н. Полторака. Ч. 1. СПб.: Нестор, 2005. С. 143-147.
- Коварский Г.О. Эвакуация в Забайкалье больных и раненых в Русско-Японскую войну//Военно-медицинский журнал. СПб., 1911. № 4. С. 709-742.
- Корчемный П.А. и др. Военная психология: методология, теория, практика. М.: Воениздат. 2010.
- Кравченко B.C. Через три океана. СПб.: Гангут, 2002.
- Кравченко В.С. Очерк деятельности судовых врачей 1-й и 2-й тихоокеанских эскадр в русско-японскую войну 1904-1905 гг. СПб., 1909.
- Крейндель И.С. Обзор болезней в Маньчжурской армии. (По отчетам госпитальных врачей)//Военно-медицинский журнал. 1908. № 7. С. 466-481.
- Обзор деятельности Харбинского военно-санитарного общества//Русский врач. 1905. № 27. С. 875.
- Озерецковский А.И. О душевных заболеваниях в связи с русско-японской войной за второй год ее//Военно-медицинский журнал. 1906. № 10. С. 262-271.
- Осипов В.П. Введение//Психозы и психоневрозы войны. М.; Л., 1934.
- Осипов В.П. Вопросы психиатрической практики военного времени/под ред. В.П. Осипова. Л.: Медгиз, 1941. 220 с.
- Павлов Е.В. На Дальнем Востоке в 1905 году. СПб.: Книгопечатня Шмидт, 1907.
- Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М.: РОСПЭН, 1999.
- Станиловский Л.С. Об организации призрения и эвакуации душевнобольных на Дальнем Востоке//Русский врач. 1905. № 17. С. 556-561.
- Труды II съезда Отечественных психиатров 1905 года/под ред. И.А. Сикорского. Киев, 1907.
- Труды III съезда Отечественных психиатров 1905 года/под ред. В.М. Бехтерева. СПб., 1911.
- Чудиновских А.Г. Организация становления (развития) психоневрологической помощи и основных научных направлений военной психиатрии и неврологии: дис.. д-ра полит, наук. СПб., 2010.
- Шумков Г.Е. Душевное состояние воинов после боев//Военный сборник. 1914. № 11. С. 103-126.
- Шумков Г.Е. Неврозы войны//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1906. № 6. С. 1180-1199.
- Шумков Г.Е. Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904-1905. Киев, 1907.
- Шумков Г.Е. Психика бойцов во время сражений. СПб., Б.г.
- Шумков Г.Е. Рассказы и наблюдения из настоящей русско-японской войны. Киев, 1906.
- Шумков Г.Е. Философская покорность судьбе и болезненное малодушие. (Этюд из жизни медиков на войне)//Военный сборник. 1914. № 1/2. С. 107-112.
- Шумков Г.Е. Чувство тревоги, как доминирующая эмоция в период ожидания боя//Военный сборник. 1913. № 5/6. С. 95-100.
- Шумков Г.Е. Эмоции страха, печали, радости и гнева в период ожидания боя//Военный сборник. 1914. № 2. С. 109-118.
- Шумков Г.Е. Первые шаги психиатрии во время русско-японской войны за 1904-1905 гг. Киев: Просвещение, 1907.
- Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904-1905 гг.)//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб, 1907. № 4. С. 593-597.
- Якубович Л.Ф. Психиатрическая помощь на Дальнем Востоке в русско-японскую войну (1904-1905 гг.)//Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СПб., 1907. № 5. С. 856-875.