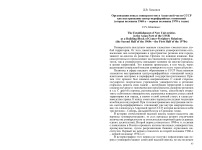Организация новых университетов в азиатской части СССР как выстраивание центр-периферийных отношений (вторая половина 1960-х - первая половина 1970-х годов)
Автор: Хаминов Дмитрий Викторович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 74, 2022 года.
Бесплатный доступ
Высшая школа любой страны и ее региональные научно-образовательные комплексы являются драйверами многих экономических, социальнокультурных и других процессов. Ведущая роль здесь всегда принадлежала университетам как сосредоточению образования, науки, практик мировоззренческих ретрансляторов, имеющих также тесную связь с народным хозяйством. В СССР наиболее ярко эта роль университетов проявлялась не в центре, а на периферии. Важные вехи в развитии Азиатской России были связаны с университетами, начиная с последней четверти XIX в., с появлением первого университета в Азиатской России, и заканчивая 1970ми годами - с расширением университетской сети в контексте последнего модернизационного рывка СССР. В статье впервые в отечественной историографии актуализируется исследовательская задача выявить основные тенденции и содержание крупнейшей советской «университезации» высшей школы и определить ее влияние на периферийные регионы. Методологической новизной исследования стало комплексное применение к материалу отечественной науки и высшего образования, взятому в макроре-гиональном ракурсе, нескольких исследовательских стратегий: теории модернизации и концепции «центр-периферийных отношений», с выделением внутри последней общегосударственной и периферийной систем таких отношений. Автору удалось выделить внутреннюю периферию азиатского макро-региона, проявившуюся в выстраивании «центр-периферийных» отношений между «старыми» и «новыми» университетами; определить три основные траектории создания новых университетов с анализом их специфики; выявить «третью роль» университетов и охарактеризовать критерии их влияния на регионы.
Высшая школа, образовательная политика, педагогический институт, университет, модернизация, периферия, азиатская Россия
Короткий адрес: https://sciup.org/149141322
IDR: 149141322 | DOI: 10.54770/20729286_2022_4_63
Текст научной статьи Организация новых университетов в азиатской части СССР как выстраивание центр-периферийных отношений (вторая половина 1960-х - первая половина 1970-х годов)
The Establishment of New Universities in the Asian Part of the USSR as a Building Block of Center-Periphery Relations (the Second Half of the 1960s - the First Half of the 1970s)
Университеты выступают важным элементом «экосистемы» любой территории. От того, насколько развита университетская сеть, насколько она интегрирована в пространство региона или города, зависит во-многом их развитие. Причем это влияние взаимно. Как сами регионы и города влияют на становление и развитие университетов, так и университеты оказывают влияние на многие процессы в жизни территорий. Это влияние происходит, в том числе, через реализацию социальной миссии университета и его «третьей роли».
Политика в сфере высшего образования в СССР была важным элементом выстраивания центр-периферийных отношений между властными центрами и периферией государства (регионами). Причем этот процесс был взаимно направленным. С одной стороны, государство посредством учреждения университетов в регионах старалось решить свои задачи - интеграция территорий в единое социокультурное и экономическое пространство, развитие регионов и т.п. С другой стороны, региональные элиты, способствуя открытию у себя новых университетов, стремились повысить статус своей территории или города, а значит и свой личный статус в глазах руководства страны. К концу советского периода последняя тенденция возобладала над первой. При этом выстраивалась внутренняя система «центр-периферийных» отношений уже внутри макрорегионов, как это сложилось в Азиатской части СССР, которая включала в себя три региона - Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию.
В истории отечественной высшей школы можно выделить два периода «университезации», то есть процесса резкого увеличения количества университетов за относительно короткий срок (в рамках одного десятилетия). Второй период относится к 1990-м гг. и связан с появлением в России огромного количества новых университетов, преимущественно, путем реорганизации бывших отраслевых институтов. Первый же период относится ко второй половине 1960-х - первой половине 1970-х гг.
В историографии этот период не получил определения как период «университезации» советской высшей школы, но мы полагаем вполне уместным использовать его применительно к той ситуации. Это был период последнего, завершающего скачка советской модернизации и последнее в истории советской высшей школы расширение сети университетов.
Оба этих периода «университезации» имели как схожие черты (преимущественно, это была реорганизация отраслевых институтов в университеты, наибольший размах получившая на периферии), так и различия (отличались условия и причины «университезации» и круг «интересантов»),
В настоящее время отсутствуют специальные исследования, посвященные вопросам «университезации» периферийной высшей школы второй половины 1960-х - первой половины 1970-х гг. Общие вопросы развития советской высшей школы азиатской периферии не дают нам нужного представления, затушевывая в общем повествовательном дискурсе университетскую составляющую1. А существующие на сегодняшний день отдельные работы по истории новообразованных в этот период университетов не позволяют получить комплексного представления об этом процессе, что как правило присуще юбилейным изданиям2. Вообще, надо отметить, в масштабах всей России позднесоветский период в целом, как и история развития высшего образования и науки, в частности, не пользуются у исследователей особой популярностью - в отличие от более ранних периодов советской истории3. Однако нельзя не отметить и ряд современных работ, посвященных рассматриваемому периоду и предмету настоящего изучения, в том числе, в региональном разрезе4.
В настоящей статье впервые в отечественной историографии актуализируется исследовательская задача выявить основные тенденции и содержание крупнейшей (и фактически единственной) советской «университезации» высшей школы и определить ее влияние на периферийные регионы. Методологической новизной исследования стало комплексное применение к материалу отечественной науки и высшего образования, взятому в макрорегиональном ракурсе, нескольких исследовательских стратегий: теории модернизации и концепции «центр-периферийных отношений», с выделением внутри последней общегосударственной и периферийной систем таких отношений. Совместное использование этих подходов позволяет снять известные крайности некоторых их положений, расширив тем самым границы их применимости.
Источниковую базу статьи составили две группы источников. Первая - опубликованные нормативно-правовые и распорядительные акты органов государственной власти, определявшие основные векторы развития высшей школы 1960-х - 1970-х гг. Вторая - ранее неизвестные документы региональных архивов азиатской части страны, впервые вводимые в научный оборот (распорядительная и делопроизводственная документация, протоколы партийных и производственных собраний коллективов университетов и т.п.).
* * *
На протяжении 1920-х - 1940-х гг. в СССР шел процесс создания университетов в столицах союзных республик, что являлось фактором укрепления их позиций и интеграции в семью советских народов. К началу 1950-х гг. все столицы союзных республик СССР обзавелись собственными университетами, а на протяжении 1950-х - 1970-х гг. университеты появились практически во всех автономных республиках и автономных областях РСФСР и других союзных республик. В абсолютном большинстве случаев университеты появлялись путем реорганизации национальных педагогических институтов в университеты.
Волне советской университезации второй половины 1960-х -первой половины 1970-х гг. способствовала также очередная реформа системы школьного образования, выразившаяся в переходе к всеобщему среднему полному образованию. Эта реформа требовала повышения уровня и качества самого школьного образования, а также работы в старших классах преподавателей с широкой университетской подготовкой5. С одной стороны, эти специалисты необходимы были для самих средних школ, поскольку расширение и усложнение предметной составляющей и вообще образовательного процесса заставляли привлекать к работе в школе высококвалифицированных специалистов, что не всегда могли обеспечить выпускники пединститутов, особенно провинциальных. С другой стороны, специалисты с университетским образованием, готовившиеся в самих же регионах, были необходимы для вузов данного региона, которые призваны были повысить качество и квалификацию выпускаемых специалистов по самому широкому спектру знаний. Необходимо также учитывать и потребность периферийных регионов в высококвалифицированных специалистах для нужд региональной экономики: подготовка таких кадров на местах существенно облегчала решение задачи обеспечения кадрами всех сфер народного хозяйства.
В итоге за период второй половины 1960-х - первой половины 1970-х гг. в крупнейших и наиболее значимых центрах РСФСР и союзных республик были открыты новые университеты. В это десятилетие было открыто более трети всех университетов, существовавших в СССР к середине 1970-х гг.
Если говорить о крупных периферийных регионах, то наиболее интенсивно университеты открывались в Сибири: к середине 1970-х гг. в большинстве административных центрах субъектов западносибирского и восточносибирского экономических районов функционировали собственные университеты.
Интенсивность открытия университетов объяснялась тем, что в обоих экономических районах в 1960-е гг, а особенно с начала 1970-х гг, регионы получили мощный импульс к развитию благо- даря усилению роли и значения добывающей и перерабатывающей промышленности, развитию новых производств на территории крупнейших городов. Это требовало подготовки высококвалифицированных кадров и развития системы высшего образования на этих территориях. Экономические процессы стимулировали и социальное развитие сибирских регионов, рост численности населения, повышение социальных запросов и т.п.
Для понимания ситуации важно обратиться к предыстории развития университетского образования в Азиатской части России. Первый университет в Азиатской России был учрежден в 1878 г. в Томске, в 1918 г. открылся второй университет в Иркутске. В 1920 г. в Екатеринбурге и Владивостоке (путем объединения нескольких вузов города) были открыты собственные университеты. После этого территория Азиатской части России была районирована (подготовка кадров и организация научных исследований): Томский университет традиционно «окормлял» Западную Сибирь и Среднюю Азию, Иркутский университет - Восточную Сибирь и Забайкалье, вместе с Якутией и другими национальными регионами, Уральский и Дальневосточный университеты были ориентированы на трансграничные регионы - Урал с Зауральем (Екатеринбург-Свердловск) и российский Дальний Восток (Владивосток). Однако судьба двух последних университетов оказалась непростой. В результате череды организационно-структурных реформ эти университеты были перестроены. В частности, Уральский университет проработал только до 1925 г. и был расформирован путем преобразования его в несколько институтов, однако в 1931 г. был возрожден как Свердловский государственный университет. Государственный дальневосточный университет в 1930 г. был разделен на девять институтов. В 1943 г. был основан Владивостокский пединститут, который в 1956 г. был вновь преобразован в университет.
Иная логика создания университетов наблюдалась в республиках Средней Азии. На протяжении 1920-х - начала 1950-х гг., благодаря политике национально-государственного строительства, в столичных городах появились собственные университеты, организуемые на базе национальных пединститутов. То же самое относилось к национальным субъектам Азиатской части РСФСР. В 1956 г. был открыт Якутский университет, открытие которого было тесно связано с промышленным освоением Якутии и открытием алмазоносных месторождений. Вопрос об организации в Бурятии классического университета дискутировался еще в первой половине 1960-х гг. Базой для него назывался Бурятский пединститут6.
Состоявшийся в 1956 г. XX съезд КПСС в своих решениях особую роль в социально-экономическом развитии СССР отводил восточным районам страны. Одним из приоритетных направлений в этой связи стало развитие научно-образовательного потенциала Востока СССР. Благодаря этой задаче, стало возможным создание в 66
1957 г. крупнейшего академического научного центра - Сибирского отделения (СО) АН СССР в Новосибирске, а также открытие вслед за ним в 1958 г. Новосибирского университета (НГУ), имевшего аффилиацию с академическими институтами и призванного работать в тесном сотрудничестве с СО АН СССР и готовить для него научные кадры.
Скачок в деле университезации высшей школы азиатской части СССР произошел в диапазоне конца 1960-х - первой половины 1970-х гг. и занял намного меньший период, чем этот процесс протекал в целом по стране. Начало ему было положено в 1969 г. С целью подготовки специалистов для различных отраслей промышленности и управления Красноярского края, академических институтов Красноярского научного центра СО АН СССР и в целом системы образования региона на базе Красноярского филиала НГУ и филиала юридического факультета Томского государственного университета (ТГУ) был образован Красноярский государственный университет (КрасГУ).
Из-за ограниченности объема статьи в качестве репрезентативного материала сосредоточим внимание на университезации в рамках западносибирского экономического района в первой половине 1970-х гг. Здесь этот процесс проявился наиболее ярко, выявив особенности организационно-структурного, кадрового и политического характера.
Постановлением Совета Министров СССР № 117 от 15 января 1973 г. в Тюмени на базе Тюменского пединститута был организован Тюменский госуниверситет (ТюмГУ). С сентября 1973 г. открылся Алтайский госуниверситет (АлтГУ) (учрежден постановлением Совета Министров СССР № 179 от 27 марта 1973 г). Приказом Министерства высшего и среднего специального образования (МВиС-СО) РСФСР от 18 июля 1973 г. в его состав был включен Барнаульский юридический факультет (филиал) ТГУ. В 1974 г. на базе Кемеровского пединститута был создан Кемеровский госуниверситет (КемГУ) (на основании постановления Совета Министров СССР № 122 от 22 февраля 1973 г). Омский госуниверситет (ОмГУ) начал свою работу в сентябре 1974 г. на основании постановления Совете Министров СССР № 276 от 28 апреля 1973 г.
В развитие упомянутого выше постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г. № 535 «О мерах по дальнейшему усовершенствованию высшего образования в стране», МВиС-СО РСФСР в июне 1973 г. разослало ректорам новых университетов циркулярное письмо «О повышении роли университетов в системе высшей школы» с разъяснениями и уточнениями, связанными с функциями и задачами новых университетов7. В данном письме, подписанном министром И.Ф. Образцовым, обращалось внимание руководителей новых университетов на необходимость поднятия роли университетов в системе высшего образования страны, пре- вращения их в ведущие учебно-методические центры высшей школы, подчеркивалось, что специалистам с университетской подготовкой предстоит играть активную роль в материальном производстве, в исследовательских учреждениях, в общеобразовательной школе и технических вузах, в аппарате государственных, хозяйственных и общественных организаций, в учреждениях культуры и других сферах жизни8.
Другая составляющая успешного развития университетского образования в стране виделась в непременной интеграции науки и образования. Главным образом, речь шла об интеграции учебного процесса самого университета с ведением научно-исследовательской работы студентов и аспирантов в рамках научно-исследовательских институтов, лабораторий, центров и других научных учреждений: «от такой интеграции научных учреждений с подготовкой кадров в университетах выиграет и та, и другая сторона, а, в конечном счете, интересы государства в целом»9, - отмечалось в циркулярном письме министерства.
Драйвером идеи открытия университетов в каждом регионе выступала региональная партийная элита - секретари обкомов и крайкомов КПСС. Как раз это и отличало данный феномен университе-зации от предыдущих случаев открытия университетов, где как раз центральные органы были основными инициаторами их открытия.
В 1960-е - первой половине 1970-х гг. годы у периферийных регионов появились организационные и материальные возможности для реализации таких проектов. Не последнюю роль здесь играли и личные амбиции партийных руководителей: наличие в региональном центре собственного университета, безусловно, повышал престиж самого региона, а вместе с ним и его руководителя. Так, вопрос об открытии университета в Кемеровской области решался региональными властями на высшем уровне. Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС А.Ф. Ештокин 29 марта 1972 г. направил самому Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу письмо-обоснование «Об открытии Кузбасского государственного университета». Обосновывая открытие университета, он обращал внимание генсека на то, что Кузбасс являлся одним из крупнейших индустриальных районов страны, при том что область в тот период испытывала острую нужду в специалистах с широкой университетской подготовкой10.
Высшее региональное руководство поддерживало университеты не только на первоначальной стадии их открытия, но и на протяжении их дальнейшей работы. Первые лица региона подключались к решению принципиальных вопросов работы молодых университетов. Например, в 1981 г. первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Н.Ф. Аксенов в своем обращении к министру МВиССО СССР В. П. Елютину просил его рассмотреть вопрос об открытии аспирантуры в Алтайском университете. В письме краевой руководитель 68
обращал внимание министра на то, что «положительное решение вопроса об открытии приема в аспирантуру АлтГУ имеет первостепенное значение для развития перспективных научных направлений в университете <...> и успешного решения проблемы закрепления научно-педагогических кадров, и, в первую очередь, кандидатов и докторов наук»11. В том же 1981 г. к В.П. Елютину обратился министр МВиССО РСФСР И.Ф. Образцов с письмом в поддержку открытия аспирантуры в Алтайском университете после очередного ходатайства к нему от руководства края и университета о ее открытии по 9-ти специальностям12.
После череды бюрократических проволочек аспирантура в АлтГУ начала свою работу с 1982 г. Это произошло спустя почти десятилетие после учреждения самого университета. Для сравнения, в ТюмГУ уже в первый год его работы, была открыта аспирантура по ряду научных специальностей13. Вероятнее всего, это было связано с тем, что АлтГУ находился ближе к университетам и научным институтам западносибирского научно-образовательного комплекса, и у него не было такой острой нужды в собственной аспирантуре, чем у ТюмГУ, находившегося в отдалении.
Появление собственных университетов существенно изменяло возможности для абитуриентов из этих регионов. Ранее у абитуриентов из сибирских регионов была возможность поступать в университеты Томска и Иркутска, в меньшей степени Новосибирска и уж тем более городов центральной России. Однако в силу низкой мобильности населения и иных факторов многие даже не пытались туда подавать документы (при том, что это были многомиллионные по населенности регионы). Да и выдержать вступительные испытания было достаточно сложно. Наличие собственных университетов давало возможность большего доступа к университетскому образованию. Так, в первый год работы АлтГУ на 300 мест, выделенных ему по очному отделению, было подано 2 086 заявлений (конкурс составил 7 человек на место, как в столичных вузах), из них от проживавших в Алтайском крае было 82,5 % (остальные - абитуриенты из соседних регионов)14. Это объясняется тем, что большинство жителей Алтайского края увидели для себя возможность получения образования в собственном регионе, и волна заявлений многократно превосходила его возможности.
В дальнейшем структура студенческого контингента также характеризовала конъюнктуру выбора профессий. По состоянию на 1977 г. самый большой набор в АлтГУ на дневном отделении был на математическом отделении физико-математического факультета -100 человек (наиболее редкая специальность для нужд периферийного региона), и у них же был один из самых больших контингентов обучающихся. Также большой контингент был у юристов - 350 человек15, а на заочном отделении АлтГУ половина всего контингента заочников (примерно 750 человек из 1 500) были студентами по спе- циальности «Правоведение»16. Потребность в подготовке юристов ощущалась в регионе достаточно остро.
Важное направление деятельности новых университетов и их руководства - это усиление научно-педагогического потенциала сотрудников. Это обуславливалось необходимостью соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к вузам университетского уровня.
На одном из первых своих выступлений ректор нового Тюменского университета И.А. Александров в декабре 1973 г. отмечал: «... Войдя в семью университетов, наш вуз вступил в полосу серьезных перемен, которые можно понять и принять, только осознав, что главной их целью является обеспечение глубокой теоретической подготовки студентов в широком диапазоне. Каждое звено высшей школы имеет свои задачи. Университеты отличаются от всех других вузов тем, что они дают своим выпускникам разностороннюю глубокую общенаучную подготовку. В условиях ускоряющейся научно-технической революции, заметно сокращается срок жизни социальных знаний, указанная особенность университетов наиболее созвучна духу времени»17.
Главные задачи, которые стояли перед новыми университетами (независимо от способа их создания - открытие нового университета, или преобразование из пединститута), были связаны с повышением процента «остепененности» и повышения профессиональной квалификации сотрудников. Так, в наследство от пединститута Тюменскому университету достался очень низкий процент «остепененности» преподавателей - около 35 %18, что, кстати, было достаточно низко даже для периферийного пединститута. Через год этот процент удалось немного увеличить до 41 %, при расширении и количественного состава сотрудников19.
Особое внимание университетского руководства к повышению количества «остепененных» сотрудников было связано и с показателями университетов по их количеству, и с тем, что это, в конечном счете, давало возможность открытия собственной аспирантуры, руководства аспирантами, создание собственных кандидатских и докторских диссертационных советов и т.д.
Дефицит ощущался в кадрах высшей квалификации, имевших ученые степени и звания, в первую очередь, докторов наук. Особенно это было актуально для кафедр теоретического профиля и для заведующих кафедрами (в пединститутах заведующие кафедрами, являвшиеся докторами наук, были редкостью). По данным МВиС-СО СССР, в стране к середине 1970-х гг. было всего 32 тыс. докторов наук, а кафедр во всех вузах страны (872 вуза) было 34 тыс.20 Во второй половине 1970-х гг. в университетах РСФСР преподаватели с учеными степенями и званиями составляли лишь 36,1 % к их общему числу, а в некоторых молодых университетах - еще меньше: например, в Якутском (создан в 1956 г. путем реструктуризации пе- 70
динститута) - 25,8 %, а в Мордовском (создан в 1957 г. путем реструктуризации пединститута) - 23,8 %21.
Подготовка собственных докторов наук на местах еще осложнялась переходным периодом в структуре Высшей аттестационной комиссии на протяжении первой половины 1970-х гг., которая с 1975 г. в очередной раз изменяла свою ведомственную принадлежность (до 1974 г. ВАК находилась при органах управления высшей школой) и стала относиться к Совету Министров СССР (ВАК при СМ СССР). В молодых университетах остро стояла проблема с открытием советов по кандидатским и докторским диссертациям. Так, ОмГУ в 1976 г. безуспешно ходатайствовал перед ВАК об открытии советов по четырем специальностям22. В конце 1970-х гг, по соглашению между ОмГУ и НГУ, за счет мест НГУ, Омский университет получил право принимать аспирантов для нескольких докторов наук по разным научным специальностям. Эту форму затем расширили с тем, чтобы в дальнейшем, накопив опыт, открыть свою собственную аспирантуру23.
Новые университеты для решения кадровых вопросов прибегали к следующим мерам: прохождение работающими преподавателями переподготовки и повышения квалификации в ведущих вузах страны; пребывание их на длительных стажировках; первое время для ведения занятий приглашались высококвалифицированные специалисты из ведущих вузов и научных учреждений, в том числе и близлежащих. Для повышения «остепененности» и уровня квалификации преподавателей практиковалось направление выпускников в целевую аспирантуру ведущих центральных и региональных вузов. Например, основной массив кандидатов наук для АлтГУ готовился через аспирантуру НГУ, а также через аспирантуры других вузов в рамках шефской помощи молодому университету (в одном только 1978 г. из этого университета в разных вузах страны в аспирантуре находилось 19 математиков, 13 историков и т.д.)24.
Самым надежным, но очень сложным, способом было взращивание кадров через собственную аспирантуру. Однако этот путь был достаточно долгим.
Для обеспечения расширения преподавательского состава и для заполнения вакансий на вновь открываемых кафедрах использовалась целевая аспирантура Томского, Новосибирского, Иркутского, Свердловского, Пермского и центральных (Москва и Ленинград) университетов.
Процесс формирования педагогических коллективов тесно зависел от формы создания университета и отличался в разных вузах: кадровая политика Алтайского и Омского университетов, созданных «с нуля», отличалась от моделей Тюменского и Кемеровского университетов, основанных на базе бывших пединститутов.
Первая модель была обусловлена тем, что у новых университетов не было сложившихся коллективов. Они формировались «с нуля», причем постепенно: сначала обеспечивались дисциплины младших курсов, а потом, последовательно, «закрывались» дисциплины старших курсов. Это способствовало поэтапному и системному подбору нужных кадров.
А вот в университетах, созданных на базе пединститутов, профессорско-преподавательский состав уже был сформирован, и необходима была работа по повышению его квалификации, перестройки его работы. Это же создавало и определенные трудности: долгое время сотрудники не могли освободиться от форм и методов учебной и научной работы, которая была присуща пединститутам.
При этом новые университеты, хотя и имели большие организационные и материальные возможности для выстраивания своей работы, сталкивались уже между собой как внешние конкуренты. Университеты испытывали острую необходимость в самом необходимом ресурсе - квалифицированных кадрах. И борьба за них приобретала решающий характер в развитии молодых университетов. Так, на партсобрании АлтГУ 20 ноября 1973 г, в первый год его работы, ректор В.И. Неверов при обсуждении проблемы с кадровым обеспечением, отмечал, что с появлением в следующем учебном году второго курса по уже открытым специальностям и с открытием новых факультетов потребует огромных усилий по привлечению кадров специалистов. При этом, по словам ректора, «обстановку обостряет открытие двух наших конкурентов в этом отношении - Кемеровского и Омского университетов»25.
В новых университетах начинают работать выпускники и сотрудники «старых» сибирских университетов и ведущих институтов. Так, ТГУ в рамках шефской помощи молодым университетам Западной Сибири как старейший и один из крупнейших вузов, помогал новым учебным заведениям укреплять их кадровый потенциал, причем не только за счет молодых специалистов, но и за счет уже состоявшихся ученых. Только за несколько первых лет, когда создавались новые университеты, из ТГУ для работы в них уехало более 10 докторов наук. Среди них оказался профессор А.П. Бородавкин, назначенный проректором по учебной и научной работе АлтГУ. Сам он активно занимался решением кадровых проблем молодого университета: по его инициативе для работы на различных факультетах АлтГУ был приглашен ряд ученых, выпускников ТГУ и других вузов Томска.
Молодые университеты переживали период «болезни роста» (у одних он заканчивался быстрее, у других он растянулся до середины 1980-х гг). Болезненно шел процесс складывания научных школ и направлений, учебных традиций, но, прежде всего, формирования педагогических коллективов. В отношении Омского и Алтайского университетов, открытых как самостоятельные структуры, где коллективы создавались впервые, трудности роста нивелировались тем, что в новые педагогические коллективы приходили весьма компакт- 72
ной группой воспитанники одних университетов (преимущественно, из ТГУ), хотя это не снимало ряд важных проблем в организации учебной работы.
Одной из причин того, что именно сотрудники ТГУ составляли ядро профессорско-преподавательского состава Омского и Алтайского университетов, было связано с тем, что в ТГУ было не только достаточное количество квалифицированных сотрудников, но и их переизбыток. Ежегодно в ТГУ защищалось большое количество кандидатов и докторов наук, при этом не всем находилось применение в университете. Вместе с тем неудовлетворительные материально-бытовые условия проживания в самом Томске (не самом развитом во многих отношениях городе Сибири), заставляли научнопедагогических работников искать места в других городах. А все, кто готовился в НГУ, находили место своего трудоустройство здесь же, в Новосибирском научном центре и других вузах Новосибирска.
Помимо личных связей и взаимодействия между «новыми» и «старыми» университетами Сибири, выстраивались и систематические институциональные связи в виде шефской помощи. НГУ как ведущий университет Сибири заключил серию договоров об оказании шефской помощи и сотрудничестве с новыми сибирскими университетами. Среди плановых показателей для университетов, с которыми НГУ заключал договоры, значились такие позиции как обеспечение повышения квалификации преподавателей; направление на работу выпускников вуза; направление на работу выпускников аспирантуры; ведение обучения в целевой аспирантуре специалистов для подшефного вуза; направление на постоянную работу в подшефный вуз своих преподавателей; осуществление руководства подготовкой диссертаций преподавателями подшефного вуза; командирование ученых для чтения лекций; командирование ученых для консультирования и оказания практической помощи; принятие на кратковременную стажировку руководителей подшефного вуза; обеспечение руководства дипломниками подшефного вуза и т.п. Один из первых договор о шефской помощи и сотрудничестве в августе 1977 г. НГУ заключил с ОмГУ. Позднее, в 1980/81 учебном году, такие договоры НГУ были заключены с АлтГУ, КемГУ и ТюмГУ, а также рядом других вузов азиатской части СССР26.
Еще в 1973 г, МВиССО РСФСР в своем программном письме «О повышении роли университетов в системе высшей школы»27 возложило на ряд ведущих университетов Азиатской части РСФСР (в том числе на Пермский, Уральский, Томский, Иркутский и Новосибирский) функции базовых, ответственных за координацию научно-методической и исследовательской работы в области актуальных проблем высшей школы конкретного региона. Поэтому помимо сибирских университетов шефская помощь оказывалась и университетами соседних макро-регионов. В частности, ТюмГУ по- мощь оказывалась уральскими университетами, поскольку Тюменская область стала тяготеть в этот период к Уральскому экономическому району Для ТюмГУ Главным управлением университетов, экономических и юридических вузов МВиССО РСФСР в качестве университетов и подразделений на 1973-1974 гг, которым было поручено осуществлять шефскую помощь новому университету, были определены соответствующие факультеты Уральского и Пермского университетов и рекомендовано ректорам заключать договоры о помощи и сотрудничестве28.
В деле организации научной работы для периферийных университетов важными стали два направления - отход от мелкотемья, от частных, инициативных тем и выход на комплексные исследования29. Эти вопросы, с одной стороны, оказались актуальными и для новых университетов, с другой стороны - породили немалые сложности.
Причины существования в молодых периферийных университетах мелкотемья и сложностей перехода к комплексным темам обуславливались рядом фактором. Одним из них была специфика формирования кадрового состава. Возвращавшиеся после защиты своих диссертаций «аспиранты-целевики» из центральных или региональных вузов и научных учреждений, привозили в свои университеты уже сформированные темы и имели намерения продолжать их разработку. Эту проблему первое время трудно было преодолеть, и лишь открытие собственной аспирантуры в университетах позволяло избежать подобных трудностей. Научно-педагогический состав формировался из «старых» сибирских, а иногда и из вузов Европейской части СССР. Соответственно, каждый исследователь приносил свою тематику и направления. Таким образом, первое десятилетие университетский научно-педагогический коллектив формировался из представителей разных научных школ, имевших различные, а часто и несовместимые научные интересы.
Свою роль здесь играли и субъективные обстоятельства, зачастую конъюнктурного характера. Анализируя ситуацию с наукой в АлтГУ за первые годы его работы, проректор по учебной и научной работе профессор А.П. Бородавкин отмечал, что тематика исследований в университете определялась, главным образом, «диссерта-бельностью», возможностью ее защитить в стороннем диссовете (а своих диссоветов пока и не было), личными вкусами и наклонностями исследователей, случайностью и тому подобными факторами, но реже - научной актуальностью. «Кто же будет определять впредь тематику нашей научно-исследовательской работы? - риторически спрашивал в своем выступлении А.П. Бородавкин. - Мы сами, но по-другому, по разряду важнейшей тематики, в сотрудничестве с АН СССР и ее институтами»30.
Существовало два вектора определения тематики исследований. По инициативным темам актуальность определялась университет- 74
ской проблематикой, а по хоздоговорам - потребностями народного хозяйства региона (в зависимости от региональной специализации - сельское хозяйство, машиностроение, добывающая, обрабатывающая промышленность и т.п.).
От сотрудников новых университетов руководство всегда требовало «постоянной научно-технической помощи народному хозяйству». По этому поводу проректор по учебной и научной работе АлтГУ профессор А.П. Бородавкин отмечал: «Мы должны давать уже “отдачу” и народному хозяйству края и производству, а главное обществу, поэтому хоздоговоры, это для нас дело чести и престижа, мы должны здесь делать ведущее место»31.
Хоздоговорная тематика для молодых университетов была очень важна и по другим причинам. Во-первых, была потребность в оборудовании университетских учебных и научных подразделений. Участие в хоздоговорных проектах давало возможность кафедрам и лабораториям улучшать свою материально-техническую базу, приобретать необходимое для научного процесса оборудование. Ведь в условиях плановости финансирования, все дополнительное оборудование необходимо было изыскивать «со стороны», так как оно не закладывалось в нужды вуза и факультетов, а также приобреталось лишь то, что нужно для организации учебного процесса и минимально необходимо для ведения научной работы. Поэтому для расширения исследовательской базы, тем более на первых порах, требовались внебюджетные средства.
Хоздоговоры давали необходимые средства для ведения фундаментальной изыскательской деятельности, на что не всегда хватало средств основных фондов. Хоздоговорная деятельность позволяла привлекать новые, в том числе и сторонние, кадры молодых специалистов и вообще иных специалистов из других учреждений и организаций, не ограничиваясь лишь своими, зачастую минимальными, силами.
Но не только это исчерпывало важность хоздоговорных работ как важной составляющей науки новых университетов. Проведение такого рода работ составляло имя, авторитет и престиж молодых университетов в кругах общественности и партийно-хозяйственной элиты региона, на деле показывало, что университет - это качественное и полезное учреждение во всех отношениях.
Советская директивная система администрирования всех процессов давала о себе знать и в вопросах организации науки. Для новых университетов, разумеется, остро стояли проблемы как формального соответствия требованиям, предъявляемым к научной работе университетов, так и формирования своего научного лица и научной повестки. И сделать это требовалось в максимально короткие строки. Университетское руководство постоянно форсировало решение этих вопросов, в том числе и в отношении тех процессов, на которые уходят годы и даже десятилетия. Ректораты требовали достижения результата в кратчайшие сроки. Иллюстрацией этому может стать один из пунктов постановления партийного собрания АлтГУ 1974 г: «считать одной из важнейших задач выработку научного направления кафедр, создание научных школ»32.
На состоявшемся в феврале 1980 г. Всесоюзном совещании работников высших учебных заведений важнейшим посылом в определении функций университетов страны стало определение ими направлений научных исследований и дальнейшее развитие фундаментальных наук, внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, укрепление кадров преподавателей и сотрудников выпускниками аспирантуры и докторантуры с учеными степенями и званиями33.
Региональное руководство советской периферии пристально следило за направлениями деятельности молодых университетов и включалось в процесс выработки их научной повестки. Так, в 1981 г. первый секретарь Алтайской крайкома КПСС Н.Ф. Аксенов, подводя итоги научной и хозяйственной работы АлтГУ, отмечал, что университету необходимо более активно включаться в нужды развития региона. В частности, он обозначил актуальную в те годы проблему переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию («поворот сибирских рек», в данном случае - Оби). Первый секретарь предложил университетским ученым включиться в эту работу, чтобы рассчитать и выяснить какие последствия принесет это краю, - «чтобы мы не остались без воды», - хотя орошение Кулундинского района Алтайского края в то время уже успешно и шло. «Никто научно не доказал ни сроки, ни дозы, ни что будет после полива <.. .> Поэтому подключайтесь смелее к этому, лучше вас никто ее [Проблему последствий «поворота рек». - Д.Х.] не решит», - заключал руководитель края. В завершении своего выступления Н.Ф. Аксенов констатировал: «Мы [Алтайский край. - Д.Х.] нуждаемся в науке. Нужна солидная программа развития АлтГУ на пятилетку»34.
* * *
Долгое время университетская сеть в СССР была, преимущественно, европоцентристской, то есть абсолютное большинство университетов находилось на территории европейской части страны. Отсюда вытекала диспропорция между «центром» и «периферией». Со временем она усложнялась выделением еще и внутренней периферии самого макро-региона - выстраивание «центр-периферийных» отношений между «старыми» и «новыми» университетами.
Рост числа университетов в СССР прекратился лишь к середине 1970-х гг, когда в большинстве своем они были созданы на уровне областных центров периферийных регионов страны.
Рассматриваемый период - это годы исчерпания инерции совет- ской модернизации. В научно-организационном плане это выражалось в достижении пределов экстенсивного расширения академических и вузовских структур, что означало окончательное складывание системы центр-периферийных отношений внутри советского образования и науки (как в сугубо территориальном, так и в содержательном смыслах).
Завершилось в этот период и оформление вузовского научно-педагогического сообщества как отдельной корпорации, которая вместе со слоем инженерно-технических работников была в свое время основным кадровым ресурсом модернизационных трендов в советском социуме. Наиболее значимым итогом для большинства регионов азиатской части СССР стало обретение собственного корпуса профессионалов, связывавших свою жизнь и карьеру с судьбой этих регионов.
К исходу данного периода завершается реализация принятой ранее модели регионализации азиатского высшего образования и науки, проявившиеся в значительном расширении сети университетских структур. Окончательная фаза распределения и перераспределения научно-образовательного потенциала в азиатском пространстве знаменовалась обозначившейся специализацией структур этого пространства. Это, в свою очередь, делало местный научнообразовательный комплекс относительно самодостаточным в плане кадровой и идейно-организационной обеспеченности. В этом отношении можно обозначить следующие структурные уровни системы центр-периферийных отношений внутри азиатского научно-образовательного пространства: центр (Томск, Иркутск, Новосибирск, Владивосток) - периферия первого порядка, остальные регионы -периферия второго порядка.
Процесс создания новых университетов шел по трем основным траекториям: создание университета «с нуля» (самый сложный и долгий путь); реорганизация педагогического института в университет (с проблемами переходного периода); открытие университета путем объединения регионального филиала другого университета и других вузов (как правило, технических), уже существовавших в регионах. А в частных случаях имела место и комбинация двух элементов (как в случае с АлтГУ: создание университета «с нуля» с присоединением к нему филиалов других вузов).
Университеты азиатской периферии, как для всего азиатского макро-региона, так и для субъектов, территориально к которым они относились, во второй половине 1970-х гг., а тем более в 1980-е гг, в тесной связи с научными учреждениями Академии наук СССР (представленные Сибирским и Дальневосточным отделениями) и академиями наук союзных республик Средней Азии, стали центрами и локомотивами развития образования, науки, а шире - экономики и народного хозяйства регионов. Именно университеты взяли на себя основную функцию по подготовке высококвалифицированных кадров, на университеты была возложена миссия по подготовке кадров высшей квалификации и т.п. Важная задача была возложена на университеты по координации и организации научных исследований своих регионов. Университеты стали центрами учебно-методической работы, повышения квалификации преподавателей вузов и т.п.
Бесспорна и заметная «третья роль» университетов, начиная с их взаимодействия с предприятиями и организациями народного хозяйства региона, и заканчивая формированием ими особого «микроклимата» университетского города.
Список литературы Организация новых университетов в азиатской части СССР как выстраивание центр-периферийных отношений (вторая половина 1960-х - первая половина 1970-х годов)
- Ilin, A.A. Proshloe, nastoyashchee i budushchee sovetskogo vuza: Yubileynye istorii vysshikh uchebnykh zavedeniy 1930 – 1980-kh godov [Past, Present and Future of the Soviet University: Jubilee Histories of Higher Education Institutions in the 1930s – 1980s.]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya, 2020, vol. 25, no. 2, pp. 93–102. (In Russian).
- Kail, M.V. Iz istorii stanovleniya universitetskogo obrazovaniya v sovetskoy provintsii [From the History of University Education Formation in the Soviet Provinces.]. Voprosy obrazovaniya, 2013, no. 1, pp. 256–272. (In Russian).
- Kanishchev, V.V. and Budyukina, N.N. Trudnyy start: K istorii Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta 1918 – 1921 gg. [Difficult Start: On History of Tambov State University of 1918 – 1921.]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, 2013, no. 4 (120), pp. 9–22. (In Russian).
- Konokhova, A.S. “I nam v otvet razdayutsya naznacheniya po gorodam oblastnogo znacheniya”: Sistema raspredeleniya vypusknikov vuzov v SSSR v gody khrushchevskoy “ottepeli” [“We Receive Appointments to the Backwoods Towns”: Graduates’ Job Placement in USSR during the “Thaw” Period.]. Noveyshaya istoriya Rossii, 2012, no. 3 (5), pp. 233–242. (In Russian).
- Konokhova, A.S. “Ob ukreplenii svyazi vysshey shkoly s zhiznyu” (reforma sistemy vysshego obrazovaniya SSSR v 1958 g.) [“On Strengthening the Connection between Higher School and Life” (Reform of the Higher Education System of the USSR in 1958).]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 126–134. (In Russian).
- Kupershtokh, N.A. Osnovnye tendentsii v razvitii vysshego obrazovaniya Sibiri v pervye desyatiletiya XXI v. [The Main Trends of the Higher Education Development in Siberia in the First Decades of the 21st Century.]. Gumanitarnye nauki v Sibiri, 2022, vol. 29, no. 1, pp. 91–98. (In Russian).
- Kupershtokh, N.A. Transformatsii v sisteme vysshego obrazovaniya Sibiri v 1990-e gg. [Transformations in the Higher Education System of Siberia in the 1990s.]. Gumanitarnye nauki v Sibiri, 2021, vol. 28, no. 1, pp. 107–115. (In Russian).
- Petrik, V.V. Osobennosti razvitiya vysshego tekhnicheskogo obrazovaniya v Sibiri vo vtoroy polovine 60-kh gg. XX v. [Features of Higher Technical Education Development in Siberia in the Second Half of the 1960s.]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2018, no. 435, pp. 143–148. (In Russian).
- Petrik, V.V. Professorsko-prepodavatelskiy sostav vysshey shkoly Sibiri: Tendentsii razvitiya i regionalnoe izmerenie (konets 50-kh – nachalo 90-kh gg. XX v.) [The Structure of the Teaching Staff of Higher School of Siberia: Tendencies of Development and Regional Measurement (the End of the 50s – the Beginning of the 90s of the 20th Century).]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya, 2007, no. 1 (1), pp. 49–80. (In Russian).
- Petrik, V.V. Sistema upravleniya vysshey shkoloy v kontse 50-kh – nachale 90-kh godov XX veka (na primere vuzov Sibirskogo regiona) [The System of Higher School Management at the End of the 50s – the Beginning of the 90s of the 20th Century (Illustrated by the Examples of Higher Schools of Siberian Region)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2005, no. 289, pp. 168–176. (In Russian).
- Sveshnikov, A.V. Samoekspertiza sovetskogo universiteta epokhi pozdnego sotsializma [The Internal Review of the Soviet University during the Era of Late Socialism.] Neprikosnovennyy zapas. Debaty o politike i culture, 2017, no. 3 (113), pp. 274–293. (In Russian).
- Zipunnikova, N.N. Universitetskiy vek: Istoriko-pravovye zametki k 100-letiyu Uralskogo gosudarstvennogo yuridicheskogo universiteta [The University Age: Historical and Legal Notes to the Centenary of the Ural State Law University.]. Rossiyskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka, 2018, № 5 (107), pp. 4–14. (In Russian).
- Petrik, V.V. Vysshaya shkola Sibiri v kontse 50-kh – nachale 90-kh godov XX veka [Higher School of Siberia at the End of the 50s – the Beginning of the 90s of the 20th Century.]. Tomsk, 2006, 646 p. (In Russian).
- Shafranov-Kutsev, G.F. Universitet i region [The University and Its Region.]. Tyumen, 1997, 222 p. (In Russian).