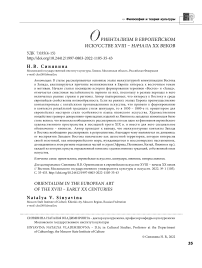Ориентализм в европейском искусстве ХVIII - начала ХХ веков
Автор: Синявина Н.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия и теория культуры
Статья в выпуске: 1 (105), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные этапы межкультурной коммуникации Востока и Запада, анализируются причины возникновения в Европе интереса к восточным темам и мотивам. Начало статьи посвящено истории формирования терминов «Восток» и «Запад», отмечается смысловая нестабильность первого из них, поскольку в разные периоды в него включались разные страны и регионы. Автор подчеркивает, что интересу к Востоку в среде европейцев свойственна волнообразность. Если на ранних этапах Европа преимущественно контактировала с китайскими произведениями искусства, что привело к формированию в контексте рокайльной традиции стиля шинуазри, то в 1850 - 1880-е гг. ориентиром для европейских мастеров стали особенности языка японского искусства. Художественное воздействие гравюр и декоративно-прикладных изделий из Японии на западных живописцев было столь велико, что возникла необходимость рассматривать его как один из феноменов европейского художественного пространства в последней трети ХIХ в. и ввести для него специальное обозначение - японизм. Автор приходит к выводу, что межкультурные контакты Запада и Востока необходимо рассматривать в ретроспективе, благодаря чему выявляется их динамика: от восприятия Западом Востока изначально как целостной территории, которая интересна своей экзотикой, как внеевропейского мира, нуждающегося в миссионерских наставлениях, до выделения в этом регионе отдельных частей и стран (Африка, Полинезия, Китай, Япония и пр.), каждой из которых присущ определенный комплекс художественных традиций, собственный язык искусства.
Ориентализм, европейское искусство, шинуазри, японизм, импрессионизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144162463
IDR: 144162463 | УДК: 7.035(4-15) | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-1105-35-43
Текст научной статьи Ориентализм в европейском искусстве ХVIII - начала ХХ веков
Восточную тему и восточные мотивы, интерес к культуре Востока в целом в европейском искусстве можно обнаружить задолго до середины ХІХ в. (например, финал сонаты A-dur В.А. Моцарта - «Турецкий марш»), то есть еще до того момента, когда они прочно вошли в европейское художественное пространство. Однако вплоть до 1800 – 1820-х гг. европейские мастера копировали исключительно внешнюю сторону художественной культуры Востока, ее отдельные элементы, поэтому в созданных ими в ХVIII в. произведениях обнаруживается лишь множество «восточных цитат». Только в ХІХ в. европейские художники при изображении Востока начинают стремиться к стилизации, а не к простому воспроизведению присущих данному региону особенностей культуры. Кульминацией же ассимиляции восточной и западной традиций, достижения гармоничного их соединения в контексте европейской художественной культуры станет начало ХХ века (в частности, одними из лучших стилизаторов были признаны мирискусники, например, декорации Л. Бакста к «Шахерезаде» Н.А. Римского – Корсакова).
Понятия «Occidens» (т.е. латинизированный Запад) и «Oriens» (эллинизированный Восток) складываются в контексте эпохи античности, однако только в период средневековья начинает формировать европейская культурная общность, основой которой выступило христианство (в связи с этим еще одним называнием Западной Европы в этот момент выступает «Христианский мир»). «Эта культурная общность с самого начала была этнически разнородной и развивалась как комплекс отдельных народов и государств, но в ней (по крайней мере в ее интеллектуальной элите) было и сознание единства, сознание общего отличия от остального мира» [1, с. 27]. Говоря о раннем этапе знакомства Европы с Востоком в ХVI – ХVII вв. следует помнить, что термин «Восток» не обладал четкими границами, имея в виду конкретные территории. В этот период в него включали преимущественно арабский мир и Китай, куда входило и усредненное представление о Японии.
Сведения о Востоке (главным образом, о Китае) европейцы получали от иезуитов, ведших в этом регионе миссионерскую деятельность. Известно, например, что Г.В. Лейбниц был знаком с вернувшимся из миссионерской поездки в Китай отцом Гримальди, под влиянием которого увлекся культурой и историей этой страны, изучал работы Конфуция, называя его «царем философии», и призывал к установлению с Китаем более активного диалога. Более того, он инициировал создание в Берлине общества, основная цель которого состояла в укреплении межкультурных контактов между Европой и Китаем.
На рубеже ХVІІ - ХVІІІ вв. в Европу было привезено немало китайских книг, переводы которых на европейские языки появились в сравнительно короткие сроки (в частности, были переведены «Ицзин» и «Шицзин»). Например, библиотека Людовика ХІV насчитывала около 280 томов книг из Китая. Фарфор же из Китая в Европу начали поставлять португальцы еще в ХVІ в., до этого момента европейцы привозили фарфор, как правило, лишь через арабские страны. Поскольку торговля фарфором и лаками оказалась прибыльной, в ХVІІ - ХVІІІ вв. возникает ряд европейских компаний, специализировавшихся исключительно на импорте товаров из Восточной Азии (в частности, чай, шелк, специи, лак и фарфор).
Крупнейшим центром производства фарфора в Китае с ХІV в. стал Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси), чья продукция была ориентирована, главным образом, на внешний рынок. Начиная же с ХVІІ в. Цзиндэчжэнь выпускал фарфор исключительно для экспорта, обязательно учитывая запросы заказчика (так, например, фарфор для иезуитов украшали росписи на религиозную тематику, на посуде и вазах, предназначенных для королевской семьи, обязательными являлись государственные символы и т.д.).
Усиливавшееся с каждым годом внимание к изделиям, привезенным из Китая и Японии, привело к возникновению среди европейцев особой концепции Востока, условно определяемой, как стиль шинуазри (от фр. chinoiserie - «китайщина»), основой которого следует считать интерес к художественным традициям Китая. Однако его не нужно рассматривать, как попытку проникнуть в суть картины мира китайцев, выявить особенности восприятия в рамках этой культуры пространственно-временных категорий, которые и нашли отражение в создаваемых китайскими мастерами произведениях. Этот интерес носил исключительно поверхностный характер, что, с одной стороны, было связано с европоцентризмом, с отношением к неевропейским культурам как нижестоящих, с другой, малой информативностью. Европейцы фактически не имели представления о жизни людей, населяющих Восток, их знания об этом регионе были скудны, поэтому многое в образе Востока, который у них сложился, было придумано ими, нафантазировано и домыслено.
Одним же из первых воплощений шинуа-зри стал Фарфоровый Трианон, возведенный по заказу Людовика ХIV в Версале архитектором Л. Лево, и хотя при его отделке не использовался фарфор, включение в название дворцовой постройки «фарфоровый», свидетельствует о желании продемонстрировать богатство короля (фарфор в этот период стоил дорого) и стремлении следовать модной тенденции.
Первой попыткой освоить восточное искусство в контексте европейской художественной традиции можно считать рококо. Художники этого стиля часто копировали росписи, увиденные ими на привезенных изделиях (фарфор, лаки и пр.), что привело к расширению тем, мотивов и сюжетов, их художественных методов, экзотические росписи будили их фантазию. В результате появилась целая серия отличавшихся изяществом пасторальных работ, где главные персонажи были одеты в псевдо-китайские костюмы и стилистически походили на китайцев (императоры и их придворные, танцоры и наложницы), а фоном для них выступали псевдо-китайские пейзажи (например, серия работ Ф. Буше на «китайскую тему»). Кроме того, в балетном искусстве тема «под Китай» нашла отражение в таких постановках, как «Китайская пастушка», «Мандарин», «Галантный Китай». Однако и здесь лишь сюжетная линия имела отношение к Китаю, и авторы не стремились показать зрителям китайскую действительность. Китай им был интересен лишь как возможность продемонстрировать экзотику, нечто отличное от европейской традиции.
Этот подход вполне вписывался в философию рококо, цель которого состояла в показе иллюзорности мира и жизни, полной удовольствий. Одним из них в этот период становится чаепитие, приобретшее постепенно черты церемониала, которое проводилось в специально возведенных в дворцово-парковых комплексах «чайных домиках» (в частности, китайский павильон в Сан-Суси, возведенный по приказу Фридриха Великого архитектором И.Г. Бюрингом). Кроме того, в этот период начинают создавать обои, зонтики, веера, орнаменты на тканях, где воспроизводились узоры «под Китай», в женском костюме в моду вошел рукав «a la pagoda» и мюли, имитировавшие неудобные крохотные китайские туфли. Таким образом, знакомство с изделиями Востока в ХVII – ХVIII вв. проходило в контексте концепции «шинуазри».
Интерес к Востоку можно обнаружить и у французских энциклопедистов, как в художественных произведениях, так и в философских трактатах (например, в «Персидских письмах» Монтескье, «Китайском сироте» Вольтера, «Нескромных сокровищах» Дидро). Многие из этих сочинений описывали разные регионы Востока, касались разных аспектов инокультуры, но большое число подобных произведений свидетельствовало и об увлечении ориентализмом, и о восприятии европейскими авторами Просвещения культуры как единого целого. То есть восточные мотивы помогали им иллюстрировать одну из главных идей этой эпохи – идею всеобщности.
Ориентальную тенденцию можно проследить и у Г.Ф. Гете, который одним из первых начал пропагандировать идею о возникновении в будущем «эпохи мировой литературы», основанием которой должен стать синтез культур Запада и Востока. Э. Делакруа, посетив в 1830-е гг. Марокко, открывает яркий и необычный для европейца арабский Восток, под впечатлением от которого он создает многочисленные картины и зарисовки (одной из самых известных, несомненно, выступают «Алжирские женщины», открывающие зрителю-европейцу экзотический и закрытый для непосвященных мир мусульманского гарема). Примерно в это же время к теме Востока обращается и А.С. Пушкин в «Сказке о золотом петушке», однако в данном случае показано, что он таит в себе опасность. У Пушкина Восток представлен в образе Шемаханской царицы как «источник соблазна и гибели» [5, с. 11]. Царица в компании звездочета и его золотого петушка разработала коварный план «в виде заранее задуманного прельщения и обмана царя с целью погубить его самого и его сыновей» [5, с.12].
Настоящий же диалог между Востоком и Западом начинается лишь во второй половине ХIХ в., когда у мастеров обоих регионов возникла потребность в поиске новых возможностей для развития своего творчества. Культурные контакты в этот момент были связаны не просто с интересом художников друг к другу, но, прежде всего, с желанием узнать новые подходы, разработанные мастерами иной художественной традиции, для перенесения их в свою творческую манеру. А.К. Шервашидзе отмечал, что «нельзя направить искусство в ту или иную сторону, вернуться к канону Поликлета или к традициям Ренессанса, если сама жизнь не поворачивает своего движения туда» [9, с. 65]. То есть проявление интереса к той или иной традиции и ее освоение, возникновение нового эстетического ориентира связано с желанием решить мастером конкретную творческую проблему. Так, Ван Гог «не упоминает японские гравю- ры, которые впервые увидел в Антверпене», и только «в Париже начал внимательно их изучать, они внесли немалый вклад в его новый художественный словарь» [9, с. 43]. Более того, он инициировал открытие выставки японских гравюр, постоянно посещал галерею Бинга, просматривая сотни привезенных из Японии рисунков и гравюр.
Другими словами, лишь в 1870 – 1890-е гг. появились предпосылки для межкультурного диалога на качественно ином уровне, в числе которых необходимо указать возможность погружения в пространство иной культуры (в частности, поездки японских мастеров в Европу, где они знакомились не только с живописью, но и с ее ролью в жизни общества, с музыкой, литературой, укладом жизни) и личного общения художников без участия посредников.
Говоря о межкультурном диалоге Востока и Запада во второй половине ХIХ в., возникает вопрос, почему именно искусство Японии повлияло на художественный язык европейских мастеров? На протяжении двух предыдущих столетий воздействие японской художественной традиции на творчество европейских живописцев носило опосредованный характер, в большей степени ощущалось влияние художественной культуры Китая. Начиная же с 1850-х гг. можно говорить о переориентации европейских мастеров с Китая на Японию. Немаловажную роль в этом процессе сыграли популяризаторы японской культуры в Европе, которые по разным причинам оказывались в Стране восходящего солнца и попадали под обаяние ее культуры. Так, еще в 1832 г. на продажу была выставлена привезенная из Японии коллекция К.П. Тунберга, который чуть более года провел на острове Дэдзима в качестве медика. За столь короткий период ему удалось собрать большую коллекцию редких растений и произведений искусства.
Внушительная коллекция, насчитывающая более десятков тысяч предметов, была привезена и Ф. Зибольдом, работавшим на том же острове Дэдзима в течение шести лет врачом. Он не брал платы с местных жителей за оказание медицинской помощи, поэтому в знак признательности они дарили доктору произведения искусства и декоративно-прикладные изделия. Кроме того, фактически сразу Зибольд стал официальным закупщиком предметов искусства для голландской короны, которая выделяла для этих целей щедрые суммы. Зибольда можно назвать одним из первых специалистов-европейцев по истории и культуре Японии, систематизировавшим свои знания об этой стране в книгах «Япония», «Флора Японии», «Фауна Японии», иллюстрациями к которым он избрал японские гравюры (в частности, из «Манга» Хокусая). Вся его дальнейшая деятельность была связана с популяризацией искусства Японии в Европе: часть своей коллекции он подарил Национальной библиотеке Вены и Королевской библиотеке в Париже, на основе другой части своего собрания при поддержке голландского правительства в 1837 г. открыл музей, где были представлены японские произведения прикладного характера и гравюры.
С 1862 г. в Париже действовал магазин мадам Дезуа, где собирались любители восточных произведений искусства. Постепенно этот дом на улице Риволи стал одним из главных площадок, где встречались живописцы и меценаты. Можно указать и на лавку Ф. Сише-ля, который не только торговал восточными предметами, но в 1874 г. побывал в Японии. О своей поездке он оставил интереснейшие «Заметки скупщика безделушек в Японии», где пишет, что не стремился к знакомству с местным укладом жизни, его не интересовала повседневная жизнь, он лишь ходил по рынкам, где покупал предметы декоративно-прикладного характера. Но, несмотря на это, казалось бы, чисто финансовое предприятие, Сишель отметил принципиальное расхождение в подходе к созданию произведения искусства европейских и японских мастеров. Для японского мастера чрезвычайно важны были процесс и доведение создаваемой им вещи или произведения до совершенства.
Со временем интерес к японскому искусству охватил всю Европу, о чем свидетельствует его постоянное присутствие на проводимых в тот период выставках (в частности, в Дублине в 1853 г., в Лондоне в 1854 г., Манчестере в 1857 г. и др.). Причины столь устойчивого интереса европейцев к художественной культуре Японии стали предметом исследования искусствоведов и художественных критиков, один из которых, Ф. Бюрти, и ввел термин «японизм», раскрывая его смысл в серии статей 1872 – 1873 годов. Он подчеркивал, что истоки данного феномена следует искать в увлечении романтиками восточной экзотикой, когда благодаря их творчеству европейцу открывается мир Алжира, Марокко, Африки в целом. С его точки зрения, японизм есть, скорее, фантазия или игра воображения европейцев на тему Японии, нежели попытка понять истинный смысл и символизм произведений японского искусства.
Однако, несмотря на некоторую справедливость подобного замечания, именно японские гравюры «оказались тем катализатором, который сыграл важную роль в эволюции европейского искусства» [3, с. 197]. Хотя приведшие в восторг европейских мастеров работы японских живописцев не воспринимались их создателями в качестве произведений искусства, а, скорее, рассматривались как результат ремесленного производства. Технология их изготовления действительно напоминала ар- тельную, где все этапы создания выполнялись последовательно отдельными специалистами (один вырезал деревянную заготовку, художник делал прорисовку, особую искусность необходимо было проявить другому мастеру при вытачивании причесок персонажей).
Однако именно японские мастера показали европейцам новое отношение к построению художественного пространства произведения: оно трактовалось ими не как совокупность тел или предметов, а бесконечная цепь изменяющихся явлений. От японцев художники Запада перенимают и возможность использовать воздушную перспективу, а не линейную, опираться на которую учили во всех академиях художеств Европы. Кроме того, академическая традиция требовала горизонтального построения композиции, у японских же мастеров присутствует диагональные линии и асимметричность.
Однако даже на этом этапе знакомства, когда интерес к японской художественной традиции перерастает в желание изучить ее и заимствовать отдельные элементы, европейские живописцы в своих рассуждениях рисуют образ воображаемой ими Японии, а не реальной (тем более что лишь некоторым из них удалось посетить ее). Но на качестве диалога это не сказалось, поскольку «ценность всякого произведения искусства для зрителя, соответствующим образом подготовленного для восприятия подобных произведений, состоит не в очаровании чувственных элементов, а в очаровании воображаемых ощущений» [2, с. 141].
Японские гравюры оказали наиболее сильное воздействие на становление импрессионизма. Его зарождение относится к тому моменту, когда начала формироваться теория искусства, основанная на представлении о том, что генерирующая художественный опыт деятельность есть деятельность, прежде всего, сознания. Это представление отрицало те теории искусства, которые считали его источником интеллект, и те, что относили «его к сфере психической природе человека. Корни искусства не там, а в природе человека как мыслящего существа» [2, с. 249]. Действительно, «понятие психического в психологии коррелирует с понятием физиологического (или физического), но не понятием идеального» [4, с. 83], которое, являясь философской абстракцией, выступает одной из основополагающих категорий эстетики. То есть искусство в этот период начинает рассматриваться как продукт сознания, в котором соединено интеллектуальное и психическое, поэтому искусство может быть устремлено к любому из них.
Кроме того, предложенная в этот период теория искусства нивелировала представление об авторе произведения как о плохо образованном человеке и ремесленнике. Вплоть до 1880 – 1890-х гг. «в культурном европейском обществе художники – лишь терпимы (говорит Ницше), уважаемы же - только люди науки» [10, с.180]. Если речь заходила о вопросах искусства, то предпочитали услышать мнение философа или ученого, но не художника, которого считали не вполне образованным и авторитетным в области теории.
Художника относили к ремесленникам, который лишь создает «предметы того или иного рода, и каждый из этих предметов обладает характеристиками, присущими его роду, в соответствии с различиями между разными родами ремесел» [2, с. 140]. При подобном подходе произведение искусства приобретает статус абсолютно реального, т.е. оно вещно, материально, как все, что создает ремесленник, и демонстрирует то, что запечатлено с помощью слов, красок и камня (в зависимости от вида искусства). Но возникает вопрос,
L
а как же, например, музыка? В ней нет слов, мы не видим нарисованных персонажей, есть лишь звуки, выстраивающиеся в мелодию. Неслучайно в связи с этим музыку называют одним из самых абстрактных видов искусства. Да, есть ноты, с помощью которых она записана, но для большей части публики они остаются лишь знаками, расшифровать которые без специальной подготовки невозможно. Но где была рождена мелодия, состоящая из звуков, которые были записаны нотами? В воображении композитора, здесь «она хранится во всей своей законченности и во всем совершенстве» [2, с. 134]. Таким образом, произведение искусства – это не последовательность звуков, цветовых пятен и слов-метафор и аллюзий (они выступают лишь инструментами для автора), а нечто воображаемое – воображаемое создателем и воображаемое зрителем/слуша-телем/читателем. Именно эта идея начинает доминировать в теории искусства в ХIХ в., и импрессионисты, воображающие Японию, увлеченные ее художественным языком, «добились – все вместе и каждый по отдельности – победы нового видения» [6, с. 10].
Не следует искать ответ на вопрос: новый подход к искусству привел к изменению художественной манеры мастеров во второй половине ХIХ в.? Или наоборот, поиски новой художественной техники и новых форм выражения заставили теоретиков пересмотреть представления об искусстве, сложившиеся в предшествующий период? Это были взаимосвязанные процессы, а импрессионисты имели право сказать, что «дух Востока так вкоренился в нашу жизнь, что подчас трудно отличить, где коренится национальная черта и где начинается восточное влияние» [8, с. 130].
Таким образом , на ранних этапах знакомства с культурой Востока в среде европейских философов и деятелей искусства складывается несколько идеализированное представление о нем, что объясняется, с одной стороны, недостаточностью информации об этом регионе (приходилось опираться лишь на рассказы миссионеров и немногочисленных путешественников), с другой, кардинальным культурным различием Востока и Запада. Однако непрерывающиеся контакты между ними позволили преодолеть многообразные препятствия и создать условия для построения диалога, основой которого становится восприятие инокультурного пространства не в контексте дихотомии «своя – чужая», а в границах пары «своя – другая».
Список литературы Ориентализм в европейском искусстве ХVIII - начала ХХ веков
- История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 1998. 429 с.
- Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства / Перевод с англ. А.Г. Ракина. Москва: "Языки русской культуры", 1999. 328 с.
- Николаева Н.С. Япония - Европа. Диалог в искусстве. Середина ХVI - начало ХХ века. Москва: Изобразительное искусство, 1996. 400 с.
- Новиков А.А. Проблема идеального: традиция и новации // Э.В. Ильенков: личность и творчество. Москва: "Языки русской культуры", 1999. С. 74 - 86.
- Поспелов Г.Г. Русское искусство начала ХХ века: Судьба и облик России. Москва: Наука, 1999. 128 с.
- Ревалд Дж. История импрессионизма / Пер. с англ. П.В. Мелковой. Москва: Республика, 1995. 415 с.
- Ревалд Дж. Постимпрессионизм / Вступительная статья и общая ред. М.А. Бессоновой. Москва: Республика, 1996. 463 с.
- Успенский А. В сторону Азии // Грезы о Востоке: русский авангард и шелка Бухары: [каталог выставки]. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2009. 219 с.
- Шервашидзе А. Индивидуализм и традиция // Золотое руно, 1906. № 3. С. 64 - 70.
- Эйгес К. Очерки по философии музыки // Звучащие смыслы. Альманах. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. С. 175 - 222.