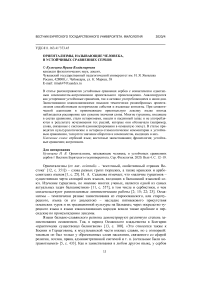Ориентализмы, называющие человека, в устойчивых сравнениях сербов
Автор: Кузнецова Ирина Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются устойчивые сравнения сербов с семантически однотипным компонентом-антропонимом ориентального происхождения. Анализируются как устаревшие устойчивые сравнения, так и активно употребляющиеся в наши дни. Заимствованию южнославянскими языками тематически разнообразных ориентализмов способствовали исторические события и языковые контакты. При семантической адаптации в принимающем ориентальную лексику языке иногда наблюдается расширение или сужение значения слова. Многие турцизмы, входящие в состав сравнения, стали историзмами, вышли в пассивный запас и не употребляются в результате исчезновения тех реалий, которые они обозначали (например, слова, связанные с системой администрирования в османскую эпоху). В статье приводятся культурологические и историко-этимологические комментарии к устойчивым сравнениям, толкуется значение оборотов и компонентов, входящих в них.
Сербский язык, восточные заимствования, фразеология, устойчивые сравнения, антропоним
Короткий адрес: https://sciup.org/148317747
IDR: 148317747 | УДК: 811.163.41’373.45
Текст научной статьи Ориентализмы, называющие человека, в устойчивых сравнениях сербов
Кузнецова И. В. Oриентализмы, называющие человека, в устойчивых сравнениях сербов // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 12–19.
Ориентализмы (от лат. orientalis – ‘восточный, свойственный странам Востока’ [12, с. 351]) – слова разных групп тюркских, а также иранских и арабосемитских языков [1, c. 25]. И. А. Седакова отмечает, что «наличие турцизмов – существенная черта словарей всех языков, входящих в балканский языковой союз. Изучение турцизмов, по мнению многих ученых, является одной из самых актуальных задач балканистики» [11, c. 557], в том числе и сербистики, о чем свидетельствуют разноплановые лингвистические работы [2; 15; 22; 23]. Осма-низмы – тематически разные заимствования из староосманского, или старотурецкого, языка (и его диалектов) – наследие пятивекового присутствия османских турок и их традиционной культуры на Балканах; через посредство турецкого языка в языки южнославянских народов вошли также арабские и персидские по происхождению лексемы.
Языки балкано-славянского региона демонстрируют различную степень заимствования османизмов. Так, в период Османского владычества в Болгарии «практически существовал билингвизм» [13, с. 100]. «Это относится также к Боснии и Герцеговине, к мусульманской части южных славян, но с оговоркой: таковым он был только у образованных слоев населения, связанного со сферой религии, поэзии, права, административной системой и т. п. (остальные были неграмотными)» [5, c. 433]. Как и заимствования в любом другом языке, у сербов одна часть турцизмов осталась экзотической, обозначая реалии исламского мира или быта, культуры, традиций, другая же настолько усвоились, что не воспринимается современными носителями языка как чужеродная. Ввиду тематического многообразия ограничимся ориентализмами, называющими человека по разным параметрам и являющимися компонентами сербских устойчивых сравнений (УС). Иллюстративный материал взят из сборников пословиц и словарей разного типа [3; 4; 7; 10; 23].
Османцы с собой принесли новую иерархию служебных званий и чинов. Один из высших титулов военных и гражданских сановников в бывшей султанской Турции и некоторых других мусульманских странах [12, c. 369] и лицо, пожалованное этим чином, – паша . Слово встречается в известном многим народам УС живети (живјети) као паша ‘жить очень богато, в роскоши, комфортно’ [7, с. 753] (эквиваленты в славянских языках см. в [5, c. 434]), но лишь в сербском языке зафиксированы фразеологизмы даје се послуживати као паша [дает управлять (вертеть, руководить и т.п.) собой как паша] ‘требует рабского обхождения’; диал. посиједио сам к’о пашалијин ђогат ‘о поседевшем человеке’ [10, т. 4, с. 369], где пашалијин – прилагательное от османизма пашалија ‘слуга паши; человек преданный паше’, а турцизм ђогат – ‘светло-сивый конь’[10, т. 1, с. 821].
УС живети (живјети) као бег (< oсм.-тур. bey ‘хозяин, господин; властитель; командир, начальник; бег’), имеющее семантику ‘жить в полном достатке, не зная ни в чем нужды’, известно и другим народам Балкан: болг. живея като бей ; макед. живее како бег ; хорв. диал. živit ka (kaj) beg . В квантитативном варианте живети (живјети) као мали бег (босн. živjeti ( osjećati se ) kao [mali] beg ) прилагательное мали имеет значение ‘тот, кто в определенной степени обладает качествами того, чье имя ему присваивается’ [10, т. 3, с. 283] : дворац – мали дво-рац ‘маленький дворик или дворец’ (тут может быть два значения), раj – мали раj ‘маленький рай’ , цар – мали цар, бог – мали бог. Вариант живи као бег на Херце-говини [4, с. 81] (хорв. živjeti kao beg u Hercegovini [20, s. 190], ср. с макед. живее како турски бег во Македонија [8, с. 247]) мотивирован тем обстоятельством, что славяне-мусульмане Боснии и Герцеговины (бошняки, босняки) и Македонии (торбеши) лояльно относились к туркам, приняв ислам «не под натиском завоевателей, а с целью сохранения или получения положения в обществе, новых земельных владений и привилегий» [16, с. 81].
Многие турцизмы в сербском языке вышли из употребления в результате исчезновения тех реалий, которые они обозначали, стали историзмами. Некоторые из них, связанные с системой администрирования в османскую эпоху, встречаются в составе УС. Образ сборщика налогов лег в основу устаревшего ныне фразеологизма серб. и хорв. bježi od njega kao od haračlije ‘всячески избегай кого-л.’ [23, s. 312]. Харачлиja (ист. ‘сборщик подушной подати’) – производное от харач ‘подушная подать с мужчин-немусульман (ист.)’ (< осм.-тур. harç, harc < aраб. ẖarğ ‘издержки, расход, затрата; платеж в рассрочку; налог; надобность, потребность; то, что принадлежит кому-л.; заработок, барыш, плата’ + заимствованый из турецкогоязыка суффикс -lija); слово встречается в сербском фразеологизме као да jе хараче (по Босни) купио [словно дань (в Боснии) собрал] ‘такой толстый и красный’ [4, c. 130]. Историзмом является также слово јемин ‘cмотритель, надсмотрщик, управляющий’ (от осм.-тур. yemin < aраб. yämīn), являющееся об- разом сравнения в УС замислио се као јемин о марту ‘крепко призадумался (потому что его обычно в марте меняли)’ [4, с. 84].
Гайдук – «у южных славян, молдаван, валахов, венгров: борец за народную свободу против турецкого господства, повстанец-партизан» [12, с. 107]. Но это исторически. На базе прямого значения ‘человек, который воевал на Балканах против османов’ у сербов развилось дополнительное значение ‘бунтовщик, мятежник вообще; разбойник’ [10, т. 6, с. 705], в говорах Воеводины
хаjдук
– это ‘вор, обманщик (ирон.)’. По А. Шкаличу, схема заимствования слова такова:
В составе некоторых сербских УС в качестве образа сравнения мы видим реалии исламского мира. Так, в пословице со структурой сравнения Храни коња, као брата, а jаши га, као душманина [Корми коня, как (родного) брата (близкого друга), но езди на нем, как на враге] [3, с. 335] содержится лексема душманин (< осм.-тур. düşman < пeрс. došman ‘неприятель; заклятый, смертельный враг, душман’).
В сербском языке хоџа – это ‘мулла, вероучитель, хóджа (духовное лицо у мусульман)’ (от осм.-тур. hoca, hāce < перс. xāğe ‘выдающийся человек, авторитет; богач; торговец; везирь’); в УС слово связывается с именем персонажа фольклора, анекдотов: [ради наопако] као Насрадин хоџа [делает наоборот как ходжа Насреддин] ‘делает шиворот-навыворот’; промеће се као хоџа кроз поњаву ‘делает бесполезную работу’; пуха ка’ и хоџа на тикву [дует как ходжа на тыкву] ‘о негативном опыте, боязни повторить прошлые ошибки, действовать осторожно даже тогда, когда в этом нет необходимости’ [4, с. 132, 264, 267]. При последних двух УС есть пояснения: 1) жена укоряла ходжу Насреддина и требовала, чтобы он не сидел без дела, а чтобы хоть что-нибудь делал; ходжа же, сделав удивленный вид и якобы поняв все совсем по-другому, расстелил во дворе тонкий коврик и, разрезав его, начал прыгать через него туда-сюда; 2) некий ходжа, обжегшись, когда ел вареную тыкву, после дул на тыкву и когда видел ее в поле на стебле (ср. с рус. пословицей Обжегшись на молоке, дуют на воду ).
Сербский язык усвоил не только лексические турцизмы, но и некоторые словообразовательные форманты, один из которых – агентивный суффикс- dţija , активно участвующий в образовании слов данной тематики в южной Славии. Но в составе сербских УС таких слов не так уж и много: као Бог и шеширџија ‘не иметь абсолютно ничего общего, полностью различаться (о внешности, характере и проч.’ [4, с. 129] ( шеширџија – ‘мастер, изготовляющий шляпы, и торговец, продающий головные уборы; шляпочник’); боји га се, као врана скелеџије ‘совсем не боится, не обращает внимания’; марити (хаjати) као врана за скелеџију ‘абсолютно не заботиться о ком-л., не волноваться за кого-л. [4, с. 21] ( скелеџија – 1. ‘плотогон, сплавщик (плотов)’; 2. ‘перевозчик, паромщик’, от tur. iskele < tal. (итал.) skala < lat. skala [23, s. 567]).
Сквернословие у многих народов часто ассоциируется с людьми, выполняющими неквалифицированную работу, не требующую мастерства. К таковым относится и носильщик, для наименования которого у южных славян существует ориентализм (серб. хамал(ин) ‘носильщик тяжестей, грузчик’, болг. хамалин ‘носильщик тяжестей, грузчик’, макед. амал ‘носильщик’), который восходит к oсм.-тур. hamal, hammāl < араб. hammāl ‘носильщик; торба’, и славянизм носач ‘носильщик’ (серб., макед., болг.). Причем турцизм – это экзотизм, называющий человека, специально нанятого, чтобы носить вещи, постоянно живущего в доме османского чиновника, который часто переезжал с места на место по службе и держал у себя под рукой частного носильщика (в славянской традиции такого не было); перен. пейор. ‘человек, выполняющий физически тяжелую работу (наемник, амбал)’ [21, s. 170]. Лексема зафиксирована в южнославянских компаративизмах: серб. псо-вати као амалин (хамалин) []; хорв. psovati kao hamalin [19, s. 180]; босн. psovati kao hamal [21, s. 170]; болг. псувам (ругая) като хамалин [6, с. 188]. Замена ориентализма славянизмов приводит к разрушению УС.
Очень редко сербское УС с компонентом-ориентализмом имеет равнозначный вариант со славянизмом: бојати се [некога, нечега] као врана скелеџије (бродара); марити (хајати) [за некога, за нешто] као врана за скелеџију (бро-дара) []; исећи као касапин (месар) месо ‘разрубить, разрезать (на куски, на части)’ (15, с. 311). Отметим, что слово месар ‘мясник’, помимо прямого значения во многих языках, имеет и переносные (‘бездарный, неумелый, плохой хирург’; ‘жестокий человек, беспощадный убийца, головорез’), которые перенял и ориентализм касапин, сохранивший в языке-реципиенте только одно значение и утративший другие, ср.: < osm. tur. kasap, kassāb < ar. qaṣṣāb ‘мясник; флейтист; мерильщик, землемер, геометр’ [21, s. 188].
Сербское УС
ићи као пеливан на ужету
вычленяется из текстов, где турцизм
пеливан
(
Лексема ċangī в персидском языке имеет семантику ‘арфистка’ (< осм.-тур. ҫengī < перс. ċang harfa ‘арфа’ + суф. - ī ). В сербский язык слово пришло как чен-гија ‘цыганка-танцовщица; танцовщица, которая пляшет перед (между) гостями в ресторане (кабаке и пр.)’. Представить ее танец помогают строки из известного романа Иво Андрича «Мост на Дрине»: «почињао да игра <…> пуцкетајући прстима и вијући се у пасу као ченгија <…>» [он пускался в пляс <…> прищелкивая пальцами и извиваясь (в талии) словно уличная танцовщица цыганка <…>]. Слово является компонентом УС горе jоj очи као у ченгиjе [горят ее глаза как у ченгии] (говорят женщине, которая бесстыдно, вызывающе смотрит); ужегла очи [зажгла глаза] кao ченгиjа [4, с. 44, 329] – ср. с босн. oči kao u čеngijе ‘о глазах, выражающих страсть, похоть’ [21, s. 133].
Турцизм аламан (< tur. Alaman , Alman < st. nijem. (cт.-нем.) Alamannen , Ale-mannen – наименование жителей южной Германии [23, s. 85]; ср. аламанка ‘холодное оружие в виде сабли немецкого образца; палаш’) – бранно ‘обжора, ненасытный человек, проглот’ [10, т. 1, с. 64] – встречается в УС навалише као Аламани [3, с. 188].
Слово будала ‘глупец, дурак, ненормальный’ (< осм.-тур. budala , büdelā , büdalā ʼ < араб. мн. buladā ʼ oт ед. balīd ‘глупец, дурак’) на территории бывшей Югославии не воспринимается как заимствование. Оно входит в состав многих сербских УС: понашати се као будала ‘вести себя как дурак’; као будала на свиjету [как дураков на свете] ‘достаточно’ [4, с. 132]; згазити кога као будала шешир [растоптать как дурак шляпу] – 1) ‘безжалостно, беспощадно, сильно избить кого-л.’, 2) ‘одержать уверенную (убедительную) победу над кем-л.’ [7, c. 708]. На востоке страны известно УС хтети (служити) кога као будалу она ствар (курац, шамар) ‘быть довольно счастливым, везучим’ [7, c. 708]. В серб. лећи (сести, сјести) коме као будали шамар ‘прекрасно подходить кому-л. (о чем-л.)’ [7, c. 778] мы видим и другое заимствование из турецкого языка – шамар ‘пощечина, оплеуха’ – ср. с босн. sjesti (pristati) k(a)o budali šamar [подходить как дураку пощечина]; odgovara kome kao budali šamar [соответствует (подходит) как дураку оплеуха] [21, s. 126].
Арабизм махнит (< осм.-тур. muannid или anūt, anūd < араб. mu’ānid ‘своенравный, упрямый; упорный, настойчивый; делающий наперекор, непослушный’ или ‘ anūd ‘упрямый, делающий назло, наперекор’) в сербском языке имеет значение ‘придурковатый, слабоумный; сумасшедший, умалишенный; бешеный’. Серб. покори се махниту, као и свету [подчинись юродивому как народу] [3, с. 261] и поклони се махниту, ка’ и свету [поклонись юродивому как (всему остальному) люду] [4, с. 316] отражают отношение к блаженным, понимание юродства как форму святости. УС као махнит и его вариант као помахнитао [7, с. 753] выполняют роль интенсификаторов, обозначая высокую степень проявления признака, действия (о ком- или о чем-л.): јурити као махнит [мчаться как сумасшедший] и т. п. Фонетический вариант лексемы зафиксирован на территории нынешней Черногории: помаже як маниту молитва пjаного попа ‘абсолютно не поможет’ [9, № 4410].
Прилагательное ћелав ‘лысый, плешивый’ (от oсм.-тур. kel ‘короста, плешь’, keçel < перс. kal , kaċal ) мы видим в серб. ћелав као јаје [7, с. 726]. Субстантив ћелав в качестве образа сравнения содержится в серб. докопао се као ћелав капе [дорваться как плешивый до шапки] ‘наконец-то дождаться осуществления чего-л., получить что-л. давно желаемое и ни за какую цену не хотеть отказаться от него’ [4, с. 68]; УС имеет эквиваленты в других южнославянских языках: болг. диал. докопвам се / докопам се като келяв о шапка [6, с. 129]; босн. dokopati se čega kao ćelav kape [21, s. 140].
Турцизм була (oсм.-тур. bula ‘cтаршая сестра, тетка (жена брата отца или жена матери; дядя (брат отца), жена брата матери’) вместо значения родства при заимствовании приобрел этническое значение ‘турчанка (замужняя)’. Слово встречается в ироничных УС као (кано) були гаће [помагати кому ] ‘абсолютно не помогать’ [14, с. 26]; вреди му као (ко) були гаће ‘абсолютно не подходит; нет никакой пользы от чего-л.’ [10, т. 4, с. 302], где гаће – ‘подштанники, кальсоны;
штаны (крестьянские)’ (ср. с хорв. vrijedi komu kao buli gaće [20, с. 49]); као була (грлом) у јагоде ‘неподготовленный, неготовый; делать что-л. наугад, на авось, невпопад’ [10, т. 1, с. 302] (ср. хорв. kao bula u jagode [20, с. 49]; хорв. шток. ić ko bula u jagode [24, с. 123]).
Через османотурецкий язык в сербский вошло слово Чивут(ин) ( Чифут(ин) ) ‘еврей, жид (бранно)’ [10, т. 6, с. 876] (< tur. Çifit , Çifut < ar. Yävūd < jevr. [23, s. 175-176]), которое является образом сравнения в УС скупили се као чифу-ти у авру [набились как евреи в синагоге] ‘о большом скоплении людей’ [4, c. 288]; избуљио очи као сарајаевски Чифутин [вытаращить глаза как сараевский еврей] [3, c. 99] (последний фразеологизм употребляется, как указывает Вук Караџић, в Боснии и Герцеговине). В македонском языке слово зафиксировано в УС му се тресит ръкана како на Чифутин [у него трясутся руки. как у еврея] ‘о скупом, жадном человеке’ [8, с. 238]. Производное от аллоэтнонима (= названия этноса, данного ему другим этносом) прилагательное зафиксировано в УС прола-зити, проћи као мимо (поред, крај) чивутског гробља ‘не замечать кого-л., не обращать на кого-л. внимания; проходить без приветствия, не глядя’ с более частотным вариантом пролазити, проћи као мимо (поред, крај) турског гробља [проходить, пройти как мимо (возле, около) мусульманского кладбища (рядом с мусульманским кладбищем)] [10, т. 1, с. 573; 15, с. 140]. В этих примерах этноним и аллоэтноним имеют несколько оскорбительный оттенок; семантика УС отражает негативное отношение к тому, что не свое, чужое. Сербы, например, называют турками не только представителей этноса (этнических турок), но и мусульман; те, в свою очередь, называют сербов влахами , откуда «“vlah i turčin” = nemusliman i musliman» [23, s. 624]. Это объясняет мотивировку последнего УС: проходя мимо (около) христианского кладбища – «святого» места, – сербы, отдавая дань уважения усопшим, по обычаю останавливались, крестились или молились, снимали головной убор, чего не делали y мест погребения иноверцев. УС известно и другим балканским народам: болг. минавам / мина (вървя и под. ) като през (покрай) турско гробище [6, с. 159]; макед. минува / поминува покраj некого, нешто (до некого, нешто) како покраj (краj) турско гробишта [8, с. 247]; босн. proći pored koga, čega kao pored turskog groblja [21, s. 241]; хорв. proći / prolaziti pokraj (pored, kraj) koga, pokraj (pored, kraj) čega kao pokraj (pored, kraj) turskog (čifutskog) groblja [17, s. 309].
Историческое событие – двухчасовая битва при Зенте 11 сентября 1697 г., когда австрийские войска под командованием принца Евгения Савойского одержали блистательную победу над турками, – мотивировало появление выражения прокопсао као Турски цар на Сенти [4, с. 263].
Этноним турчин встречается в серб. нуди као Турчин вjером [навязывает как турок (мусульманин) веру] [3, с. 233]; в основе натркуje као зима на гола Турчина [3, с. 196] – восприятие турка как ленивого человека, проводящего время в праздном безделии и в силу этого не успевшего подготовиться к невзгодам (для пояснения возникновения образа можно провести параллель со строками басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей»: «Попрыгунья Стрекоза Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза»). УС имеет вариант без этнонима: навалио као зима на гола чоека [4, с. 185]. Образность серб. навадио се као Турчин на крметину [приучился как турок (мусульманин) к свинине] [4, с. 185] пе- рекликается с босн. navaliti k(a)o bаlija na krmetinu ‘налечь на что (работу, еду и т.п.) с большим жаром, без меры (рaзг. пeйoр.)’ [21, s. 120], где bаlija – 1) ‘неуч, необразованный мусульманин’; 2) ‘славянин-мусульманин Боснии, бошняк (в речи немусульманина)’ (< осм.-тур. Рассмотренный и прокомментированный с позиций лингвокультурологии материал показывает, как османизмы и – шире – ориентализмы (в основном арабизмы и персизмы), называющие человека, проникали в сербский язык, часто претерпевая при этом различные изменения – от незначительных фонетических до семантических с разной степенью отклонения от оригинальных значений заимствований, обогащая как его лексический, так и фразеологический корпус. Многие ориентализмы, входящие в состав УС, стали историзмами, вышли в пассивный запас и не употребляются в результате исчезновения тех реалий, которые они обозначали (например, слова, связанные с системой администрирования в османскую эпоху). В то же время немало восточных заимствований входит в активный запас, не ощущаясь чужеродными. Фразеологические параллели в других южнославянских языках или их отсутствие дают возможность сделать вывод об их универсальности или идиоэтничности.
Список литературы Ориентализмы, называющие человека, в устойчивых сравнениях сербов
- Бушеева А. И. Еще раз об ориентализмах // Материалы научной конференции ТГГПУ. Казань: Изд-во ТГГПУ, 2006. С. 23–27.
- Вуловић Н., Ђинђић М. О морфолошко-семантичкој вредности турског придева кара у српском лексичком систему // Српски језик XVII. Београд, 2012. С. 411–418.
- Караџић В. Ст. Српске народне пословице и друге различне као оне у обичаj узе- те риjечи. У народноj штампариjи на Цетињу, 1836. 362 с.
- Караџић В. Ст. Српске народне пословице. У штампариjи Jерменскога манастира. У Бечу, 1849.
- Кузнецова И. В. Ориентализмы-названия титулов и должностей в устойчивых сравнениях южных славян (на фоне других языков) // Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. Ročník 89 (2019), sešit 4. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2019. Pр. 432–439.
- Кювлиева-Мишайкова В. Устойчивите сравнения в българския език. София: Българска академия на науките, 1986. 275 с.
- Марјановић С. П. Поредбене фраземе с компонентом comme / као у француском и српском језику: докторска дисертација. Београд, 2017. 913 с.
- Никодиновски З. Етнонимите во фраземските и во паремиските единици во ма- кедонскиот јазик // Имињата и фразеологијата. Скопје: Филолошки факултет «Блаже Конески», 2018. С. 233–250.
- Радовић J. Збирка народних изрека. Титоград: Графички завод, 1962.
- Речник српскохрватскога књижевног jезика. Т. 1–6. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967–1976.
- Седакова И. А. Балканизмы и турцизмы: новые подходы к проблеме // Славянский альманах. 2013. М.:imageИндрик, 2014. С. 553–562.
- Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988. 608 с.
- Стоянова Н. И. Турцизмы во фразеологизмах болгарского языка // Вестник Да- гест. гос. ун-та. Гуманитарные науки. Вып. № 6. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. С. 100–105.
- Трофимкина О. И. Сербохорватско-русский фразеологический словарь. М.: Восток–Запад, 2005. 229 с.
- Ђинђић М. С. Турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко- деривациона анализа): докторска дисертација. Београд, 2013. 568 с.
- Хмелевский М. С. Отражение истории, культуры и традиций Боснии в языке и фразеологии // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Vol. 60 (1). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. Рр. 79–86.
- Fink-Arsovski Ž., Kovačević B., Hrnjak A. Bibliografija hrvatske frazeologije i popis frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima. Zagreb: Knjegra, 2010. 814 s.
- Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. 985 s.
- Matešić J. Frazeološki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika. Zagreb: Školska knjiga, 1982. 808 s.
- Menac A. Iz problematike frazeološke sinonimije u ruskom i hrvatskom književnom jeziku // Filologija. Razred za filologiju, 1979, 9. S. 185–191.
- Šehović A., Haverić Đ. Leksika orijentalnog porijekla u frazemama bosanskog jezika. El. knjiga. Sarajevo: Filozofski fakultet, 2017. 269 s.
- Škaljić A. Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti Bosne i Herzegovine. T. 1–2. Sarajevo: Institut za proučavanje folklora: Dopunska izdanja, 1957.
- Škaljić A. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost, 1966. 662 s.
- Vranić S., Zubčić S. Turcizmi u frazemima hrvatskih govora. Filologija. № 60. Za- greb, 2013. S. 103–145.