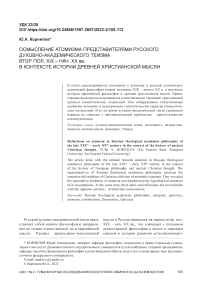Осмысление атомизма представителями русского духовно-академического теизма втор. пол. XIX - нач. XX вв. в контексте истории древней христианской мысли
Автор: Корнилов Юрий Анатольевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отношение к атомизму в русской духовно-академической философии второй половины XIX - начала XX в. в контексте истории европейской философии и древней христианской мысли. Православные академисты встраиваются в многовековую традицию христианской критики атомистических концепций. Они обнаруживали спекулятивные проблемы атомизма и подчеркивали гипотетический характер атомистических построений. В то же время духовно-академический теизм указанного периода не совпадал с противоположной крайностью - аристотелевским континуализмом.
Духовно-академический теизм, античность, патристика, атомизм, континуализм, демокрит, эпикур
Короткий адрес: https://sciup.org/170195084
IDR: 170195084 | УДК: 23/28 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/105-112
Текст научной статьи Осмысление атомизма представителями русского духовно-академического теизма втор. пол. XIX - нач. XX вв. в контексте истории древней христианской мысли
Русский духовно-академический теизм представляет собой важное философское направление не только отечественной, но и европейской мысли. Расцвет православно-теистической мысли в России пришелся на период втор. пол. ХІХ – нач. ХХ вв., что совпадает с подъемом отечественной философии в целом и мировым скачком в истории развития естественнонауч- ного знания. В этой связи стоит обратить внимание на духовно-академическую философию природы как на отдельный этап становления натурфилософского знания внутри русской мысли, а также в истории восточнохристианской традиции.
Анализ рукописного и печатного фонда духовных академий дореволюционного периода показывает активный интерес студентов и профессоров к натурфилософской проблематике. В указанный период православные академисты стремились соотнести теистическую космологию с теми теоретическими выводами о физической реальности, которые появлялись в результате новейших научных открытий (в области физики, химии, биологии, математики, палеонтологии, геологии, астрономии, психологии и физиологии).
В настоящей статье будет раскрыто, как русский духовно-академический теизм отреагировал на развитие атомистической концепции во втор. пол. ХІХ – нач. ХХ вв. Это позволит глубже осмыслить православно-теистическую философию природы в историко-философском ключе, поскольку атомизм представляет собой древнее учение, стоящее у истоков европейской натурфилософии.
Под атомизмом (греч. ἄτομος – «неделимый») в широком смысле можно понимать совокупность натурфилософских концепций о дискретной структуре материи и пространственно-временного континуума (сторонники такого понимания могут не употреблять термин «атом» и не являться материалистами). В узком историко-философском смысле атомизм обозначает учения Левкиппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция об атомах. Представлениям указанных авторов противостоит концепция непрерывности континуума, выраженная в философии Аристотеля и стоиков.
С точки зрения Демокрита, объективно существуют только разнообразные атомы и пустота, которые определяют все множество эмпирически воспринимаемых качеств на субъективном уровне, включая стихии (огонь, воздух, землю, воду). Наблюдаемые качества чувственного мира сводимы, согласно Демокриту, к формально-количественным различиям атомов. Атом как предел деления всякого тела не имеет внутри себя пустоты, по причине чего он и является неделимым. Отдельно взятая конечная вещь не может быть бесконечно делимой, иначе она будет парадоксальным образом состоять из бесконечного количества частей. Атомы в системе Демокрита вечны и неизменны, имея вечное движение и совершая колебательные движения даже внутри твердых тел. Боги и душа также состоят из атомов. Атомы не доступны чувственному восприятию, выступая предметом умозрительных рассуждений (как ὶδέαι, т.е. «виды»). Наличие пустоты объясняет множественность и движение атомов, выступая их вместилищем. Атомы и пустота у Демокрита осмысляются в контексте механистического детерминизма, допускающего множественность миров.
Продолжателем Демокрита в области физики выступил Эпикур. Он также считал, что Вселенная состоит из тел и пустоты. Тела, в свою очередь, состоят из атомов, которые пребываю в движении вечно и без перерыва. Атомы имеют лишь величину, вес и вид. Атомарная материя, согласно Эпикуру, характеризуется самодвиж-ностью и способна к самоорганизации. Специфика эпикурейского атомизма заключается прежде всего в представлении о возможности спонтанного отклонения атома от прямой траектории, что позволяло Эпикуру преодолевать стоический фатализм и демокритовский детерминизм. Боги, с точки зрения Эпикура, также состоят из атомов. Эпикурейские идеи были развиты римским материалистом Лукрецием. Как и Эпикур, Лукреций отрицает участие богов в космогоническом процессе, а также критикует учение о бессмертии души.
Помимо наиболее известной группы древних атомистов, описанной выше, стоит упомянуть о представлениях некоторых других философов, которые также выступали за дискретную структуру материи. Об атомистической структуре материи говорил Платон, однако его атомизм является «математическим». В самой своей основе материальные тела состоят из «треугольников», которые понимаются как исключительно количественные «кванты» пространства. Аристотель причислял к числу атомистов (в широком смысле) также и пифагорейцев, учивших о том, что все состоит из чисел. Гераклид Понтийский учил о том, что начала вещей – «несвязанные частицы» – состоят из мельчайших неделимых компонентов, не обладающих качествами. Диодор Крон утверждал, что существуют «амеры» – мельчайшие тела, которые неделимы, поскольку у них в принципе нет частей.
Обобщая сказанное выше, приведем типологию античного атомизма, которую предлагает
М.А. Солопова: 1) физический (физико-механистический) атомизм Левкиппа-Демокрита и Эпикура; 2) натурфилософский (корпускулярно-физический) атомизм Гераклида Понтийского и Асклепиада; 3) метафизический (математический) атомизм пифагорейцев, Платона и Ксенократа; 4) концептуально-логический атомизм Диодора Крона [22, с. 160].
Платоническая, аристотелевская и стоическая школы подвергали атомизм Демокрита философской критике. Впоследствии к ним подключились христианские авторы. Христианские мыслители различно оценивали древних атомистов. «Поскольку демокритовская школа, в отличие от эпикурейской, была для христианских авторов не современным, а скорее “книжным” противником, их отношение к Демокриту в целом более снисходительно, чем к Эпикуру» [24, с. 380]. Эпикурейская школа процветала в ІІІ и в начале ІV вв. Главные удары критики наносились по Эпикуру в связи с заимствованием стоической полемики против эпикуреизма представителями христианского богословия [11, с. 62].
Знакомство с Демокритом являют такие христианские авторы, как Климент Александрийский, Немесий Эмесский, Евсевий Кесарийский и Феодорит Кирский. С идеями Лукреция были знакомы Тертуллиан, Арнобий Старший и Лактанций. Примечательно, что, по мнению Иринея Лионского, гностики заимствовали свое учение «о тени и пустоте» от Демокрита и Эпикура [13, с. 148]. Епископ Исидор Севильский воспринимает Демокрита как мага, скорее всего опираясь на псевдодемокритовскую алхимическую литературу первой половины первого тысячелетия: «Первый из магов – Зороастр, царь Бактрийцев, сраженный в битве Нином, царем Ассирийцев... Спустя много столетий искусство это развил Демокрит...» [14, с. 228]. Через Исидора Севильского учение об атомах было известно в раннем средневековье.
У Лактанция мы встречаем последовательную критику атомизма Левкиппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция. Лактанций, во-первых, подчеркивает умозрительную гипотетичность существования атомов: «Ибо где и откуда взялись эти частицы [corpuscula]? Почему они никому, кроме одного лишь Левкиппа, не привиделись, наученный которым Демокрит передал наследство глупости Эпикуру? Если эти частицы существуют и к тому же если они, как те говорят, плотные, то они должны быть видимы глазу» [15, с. 207]. Во-вторых, по мнению христианского автора, единство природы атомов не позволяет корректно объяснить многообразие вещей окружающего мира. Аналогию с возникновением разных слов из одних и тех же букв алфавита Лактанций не принимает, поскольку сами по себе буквы уже имеют разную форму. В-третьих, представления о том, что атомы имеют крючки для соединения, указывает на возможность их дальнейшего расчленения: «Стало быть, они могут делиться и расчленяться, если в них есть что-то, что выступает. Если же они гладкие и не имеют крючков, то они не могут соединяться.... Если же, как они говорят, частицы столь малы, что никаким острым железом их нельзя рассечь, то каким образом они имеют крючки или углы? Если они торчат, то необходимо, чтобы можно было их отсечь» [15, с. 208]. В-четвертых, Лактанций подчеркивает отсутствие у атомов чувств и разума, из чего следует невозможность их упорядоченного соединения: «Наконец, по какому договору, по какому плану они соединяются между собой, чтобы из них что-то возникло? Если они лишены чувств, то не могут столь упорядоченно соединяться, так как только разум может создавать что-то разумное» [15, с. 208]. Тот же аргумент повторяется у Дионисия Александрийского: «Но атомы не управляют, ибо как могут они управлять, когда даже не существуют?» [8, с. 10]. В-пятых, Лактанций сомневается в том, что маленькие атомы могут образовать огромные тела: «Какова же сила атомов, чтобы из столь маленьких [частиц] появлялись неисчислимые громады?» [16, с. 91]. В-шестых, для христианского автора очевидно, что если бы все рождалось из соединения атомов, не было бы необходимости в семенах и акте совокупления [16, с. 92]. В итоге Лактанций приходит к выводу, что «ничего не возникает из атомов, поскольку всякая вещь имеет собственную и известную природу, свое семя и свой закон, данный изначально» [16, с. 92].
Мы отметили лишь основные аргументы Лактанция против атомистической концепции. В контексте нашего исследования важным является то, что для Лактанция классический античный атомизм есть отрицание божественного провидения, о чем он говорит в связи с анализом концепции Эпикура: «Очевидно, чтобы освободить место для своих атомов, он решил исключить Божественное Провидение» [17, с. 49]. Для христиан был неприемлем не столько сам по себе атомизм, сколько связанная с ним концепция «апроноэсии», то есть представление атомистов о возникновении мира из случайных столкновений атомов [11, с. 61]. Следующий антихристианский вывод из атомистической теории – это отрицание бессмертия души: «Ведь поскольку они исключили из человеческой жизни Божественное Провидение, то поневоле выходило, что все было рождено само собой. Отсюда они выдумали столкновения мельчайших частиц и их случайные сцепления, ибо не видели начала вещей. Когда они ввергли себя в эти заблуждения, уже необходимость принуждала их полагать, будто души рождаются вместе с телами и вместе с телами же умирают» [17, с. 46]. Тертуллиан также критиковал учение атомистов о гибели души вместе с телом [25, с. 112], как и Амвросий Медиоланский [2, с. 175]. Еще один важный аспект христианской критики атомизма – это отрицание составленности богов из атомов, что мы видим на примере сочинений Оригена: «С богами Эпикура, правда, дело обстоит совсем иначе. Они состоят из атомов; они, следовательно, по самой своей природе и составу могут быть подвержены разрушению, коль скоро не постарались даже удалить от себя те другие атомы, от которых грозит им разрушение и уничтожение» [19, с. 685]. Августин Аврелий в своем трактате «О граде Божием», как и другие христианские авторы, критикует эпикурейское учение о множественности миров [1, с. 469]. Еще одним характерным аргументом против атомистической концепции являлось указание на внутренние разногласия в среде приверженцев данной теории (например, в сочинении уже упомянутого нами Дионисия Александрийского). В целом же, по замечанию М.М. Шахнович, «все христианские писатели от Афинагора до Августина критиковали эпикурейское учение о происхождении атомов в результате спонтанного столкновения атомов и поддерживали точку зрения стоиков о божественном разуме, который создал Вселенную и управляет ею» [26, с. 192].
Христианская натурфилософия в последующий период была во многом зависима от философии природы Аристотеля и онтологии Платона, в целом игнорируя атомистическую концепцию: «На протяжении всего средневековья идея физического атомизма не только не получила дальнейшего развития, но в значительной степени забывалась и глохла. Если понятие математически “неделимого” ... подверглось логической шлифовке, то физическая атомистика лишь в отрывочной форме излагалась в порядке полемики» [11, с. 61]. В наши задачи не входит специальный обзор классической христианской натурфилософии. Мы лишь отметим, что христианские мыслители эпохи патристики и средневековья активно использовали субстан-циально-ипостасный и сущностно-энергийный дискурсы в области онтологических разработок и представления о стихиях в описании эмпирической натурфилософии. Аристотелевский континуализм был противоположен атомистической концепции: «Аристотелевский конти-нуализм запрещает наличие неделимых единиц пространства, времени и движения» [9, с. 94]. Согласно Аристотелю, противоположные свойства единой первоматерии соединяются в определенное сочетание и таким образом образуются стихии, которые воплощаются в явлениях природы. В то же время в рамках рецепции и христианизации платонизма восточнохристианские мыслители развивали представления о фундированности эмпирической реальности идеальными основаниями, содержащимися в божественном Уме. Это позволяло объяснить «переход» от невещественного Бога как причины материального бытия к изменяющемуся миру стихий.
Так, например, Григорий Нисский считал, что Бог вначале сотворил бесформенное вещество (τὸ ὑποκείμενον), которое способно к принятию различных качеств. Первоматерия оформлялась качествами, и в результате возникали различные материальные стихии и предметы [10, с. 300]. Как и многие другие древние христианские писатели, нисский богослов обращал внимание на то, что стихии превращаются друг в друга. Примечательно, что для Григория Нисского природа стихии – это сумма качеств, а материя составляется из свойств, которые по сущности своей нематериальны. В этом отношении очевидно влияние платонизма на мысль каппадокийцев: «...Представление свт. Василия о материальной сущности как подлежащем, составленном из совокупности умопостигаемых качеств, развитое свт. Григорием в рамках его учения о том, что материя есть совокупность нематериальных идей, находится в русле платонической традиции» [3, с. 101]. Материальная вещь, таким образом, «складывается» из умопостигаемых свойств как из идей. Представление о бескачественном субстрате, оформляемом качествами, в концеп- ции Василия Великого находится также под влиянием стоической традиции, а представления о стихиях – под влиянием аристотелизма [10, с. 224]. В дальнейшем о составленности тел из стихий говорят, например, такие мыслители, как Максим Исповедник [18, с. 211] и Иоанн Дамаскин [12, с. 71]. Отдельным вопросом, требующим специальной разработки, является особенности восприятия учения о первомате-рии в традиции восточного и западного христианства (учитывая, что русский духовно-академический теизм был фундирован обеими течениями). В рамках данной статьи отметим лишь то, что классическая христианская мысль позднеантичного и средневекового периодов в рамках положительной разработки натурфилософских вопросов ориентировалась на теории континуального, а не атомистического типа.
В начале ХVІІ в. происходит возрождение физической атомистики через постепенное преодоление устоявшегося континуального взгляда на материю. Некоторые перипатетики ХVІ в. пытались согласовать аристотелевское учение с корпускулярными представлениями, происходила реабилитация концепций Демокрита и Эпикура. В результате получили развитие корпускулярно-механические воззрения. В атомистике Галилея преодолевается противопоставление физической и математической атомистики.
Русская духовно-академическая традиция, находясь в начале своего развития в зависимости от христианизированной аристотелевской онтологии, тем не менее была знакома и с древним, и с новейшим атомизмом. В целом для духовно-академических авторов, за некоторым исключением, характерно критическое отношение к атомистической концепции. Критика осуществлялась как с позиций спекулятивного анализа (обнаружения внутренней логической противоречивости атомистической концепции), так и с привлечением опыта естественных наук.
Т. Буткевич показывает, что учение об атомах вступает в противоречие с материалистическими представлениями: «...В учении об атомах, как субстрате всего материального, собственно говоря заключается уже отрицание понятия материи: осязуемое вещество происходит из неосязуемого, весомое из невесомого, пространственное из непространственного. Кроме того, если атом есть элемент недоступный совершенно восприятию и не представляем, если он невесом, не пространствен, то каким образом он может быть назван материальным? Наконец, если атом как основное начало всего материального, не доступен нашему чувственному восприятию, то како же основание материализм имеет для того, чтобы чувственное восприятие считать критерием для определения истинно сущего...» [4, с. 97–98]. Автор заявляет, что атомистической гипотезой пользуются за неимением лучшей объяснительной модели, осознавая ее недостатки. Атом для Т. Буткевича – чисто метафизическое понятие, не объект знания, а объект веры материалистов, причем сами материалисты не согласны в понимании самого этого объекта. Также автор обнаруживает внутренние противоречия в атомистической гипотезе: если атом есть величина, значит он занимает определенное пространство, а значит делим; если он имеет силу тяготения, то почему он невесом и т.д.
В.Г. Рождественский высказывает критический взгляд на учение о бытии отдельных атомов, утверждая, что физика и химия не достигли до них в своих исследованиях: «И химия, точно также как и физика, положительно исключает всякую возможность бытия отдельного атома, в свободном состоянии существующего от себя и по себе, как чего-то самодвижущегося и самодеятельного; другими словами: атомов в собственном смысле не существует, а существуют только молекулы – элементарные частицы материи, видимые нами под микроскопом; бытие первых, следовательно, есть пустое представление, фикция» [21, с. 520]. Автор подчеркивает спекулятивный характер атомистических построений, которое не так далеко ушло от Эпикура и Демокрита. Атомистические представления гипотетичны и полны неразрешимых противоречий [20, с. 413–414]. На место атома, по мнению В.Г. Рождественского, необходимо поставить принцип качественной динамики.
А.И. Введенский присоединяется к теоретической и эмпирической критике атомистической гипотезы. Православный теист отмечает, что неделимость, однородность, тождественность и первоначальность атома находятся под сомнением: «Если и признавать атомы, то с эмпирической точки зрения им нельзя усвоять ни неделимость, ни однородность, ни первоначальность» [5, с. 2].
Еще одним критиком атомистической концепции являлся С.С. Глаголев: «Для физика и химика наших дней атом есть только абстракция... Химических элементов не существует в природе, в природе существуют только простые тела. Есть уголь и графит, но нет углерода. Другими словами, в природе имеются молекулы, но нет атомов. Химия и не может мыслить атом, как некоторую самостоятельную реальность. Так точно и астроном не может мыслить о планете как самостоятельной единице, оставляя в стороне солнце, потому что притяжением последнего определяются физические свойства первой» [7, с. 270]. Как и другие критики со стороны православного теизма, С.С. Глаголев подчеркивает, что учение о атомах в физике и химии имеет гипотетический характер: «Гипотетические вещи, которые мы называем атомами и атомическими вибрациями, молекулами и молекулярными движениями, оказываются не в таком положении. Реальность, скрывающаяся под этими словами, какова бы она ни была, совершенно ускользает от нашего наблюдения, мы не можем отождествить эту реальность никаким образом с материальными частицами и их перемещениями...» [6, с. 92–93].
Мы привели несколько наиболее характерных суждений русских православных теистов касательно атомистической гипотезы. Из них становится ясно, что православная духовно-академическая мысль встраивается в историю восточнохристианской критики атомистической гипотезы. С одной стороны, это детерминировано наследием традиционной христианской мысли, которая излагала свою картину мира в категориях континуальной натурфилософии и которая накопила опыт спекулятивной критики атомистической концепции. Как и в древности, развитие новоевропейского материализма зачастую было связано с построением деистической или атеистической картины мира.
С другой стороны, критическое отношение к атомизму в духовно-академической среде было связано с особенностями русской православно-теистической мысли в целом: внимательным отношением к результатам экспериментальных наук, стремлением согласовать спекулятивные выкладки с эмпирическими фактами и признавать те концепции, которые обладают полной логической ясностью. Православные академисты выявляли логические несоответствия внутри атомистической концепции, учитывали гносеологические ограничения человеческого восприятия в контексте постижения атома, а также подчеркивали гипотетичность атомизма. Духовно-академические теисты видели, что в современных им атомистических концепци- ях возрождается древний материалистический атомизм.
Нам кажется, что некоторые теисты заходили слишком далеко в своей критике атомизма, однако их критическое отношение к поверхностным атомистическим концепциям совпало с тенденциями по преодолению грубого материалистического атомизма в новейшей физике. Русские православные академисты второй половины ХІХ в. уже не были столь зависимы от аристотелевской мысли, как в самом начале становления духовно-академической традиции. Сохраняя настороженное отношение к атомизму и освобождаясь от давления западноевропейского схоластического аристотелизма, православные академисты конца ХІХ – начала ХХ вв., по всей видимости, приближались к пла-тонизирующему представлению о материи и ее фундаментальных составляющих (в рамках христианской космологии). Примечательно, что «в современной науке из всех версий античного атомизма именно математический атомизм Платона вызывает наибольший интерес как повод для плодотворных сопоставлений» [23, с. 200].
Список литературы Осмысление атомизма представителями русского духовно-академического теизма втор. пол. XIX - нач. XX вв. в контексте истории древней христианской мысли
- Аврелий Августин. О граде Божием. Т. 3. СПб.; Киев: Алетейя; УЦИММ-Пресс, 1998.
- Амвросий Медиоланский. О благе смерти // Амвросий Медиоланский. Собрание творений. Т. 3. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 133-214.
- Бирюков Д.С. Тема описания человека через «схождение особенностей» у свт. Василия Великого и ее церковно-исторический и историко-философский контекст // Богословские труды. 2009. № 42. С. 87-109.
- Буткевич Т. Неверие XIX века // Вера и разум. 1899. № 14. Кн. 2. С. 97-98.
- Введенский А. Основатель системы трансцендентального монизма (Окончание) // Вопросы философии и психологии. 1892. Кн. 15. С.1-17.
- Глаголев С.С. Материя и дух. Попытка объединения данных наук о материи и духе для научного обоснования христианского взгляда на мир и человека. СПб.: Приложение к журналу «Странник», 1906.
- Глаголев С.С. Новости русской литературы по религиозно-философским вопросам // Богословский вестник. 1898. Т. 4. № 11. С. 245285.
- Дионисий Александрийский. О природе против эпикурейцев // Творения святого Дионисия Великого, епископа александрийского в русском переводе. Казань: Типолитография Императорского университета, 1900. С. 1-19.
- Журавлева Е.В. Кинематические основания «динамической» логики Брадвардина // Ра-цио.Ру. 2014. № 13. С. 92-109.
- Зинковский Е.А. Великие отцы Церкви о материи и теле человека. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2014.
- Зубов В.П. Развитие атомистических представлений до начала XIX в. М.: Наука, 1965.
- Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003.
- Ириней Лионский. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2008.
- Исидор Севильский. Этимологии VIII: О церкви и сектах / Пер. с лат., комм. и введ. А. Гараджи // Платоновские исследования. 2015. № 3. С. 198-253.
- Лактанций. Божественные установления. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007.
- Лактанций. О гневе Божием. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007.
- Лактанций. О творении Божием. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2007.
- Максим Исповедник. Четыре сотни глав о любви // Добротолюбие. Т. 3. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. С. 162-225.
- Ориген. Против Цельса // Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. С. 404-790.
- Рождественский В.Г. Материализм Бюх-нера // Христианское чтение. 1868. № 3. С. 400415.
- Рождественский В.Г. Материализм Бюх-нера // Христианское чтение. 1868. № 4. С. 518556.
- Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 157-168.
- Солопова М.А. Атомизм // Новая философская энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль, 2010. С. 199-200.
- Солопова М.А. Демокрит // Православная энциклопедия. Т. 14. М.: Православная энциклопедия, 2006. С. 378-380.
- Тертуллиан. О душе. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004.
- Шахнович М.М. Эпикуреизм и христианство в философском и теологическом дискурсе эллинистической эпохи // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2010. № 4. С. 189-196.