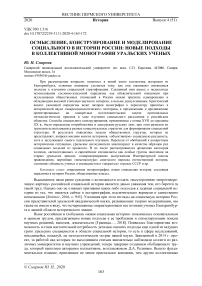Осмысление, конструирование и моделирование социального в истории России: новые подходы в коллективной монографии уральских ученых
Автор: Смирнов Ю.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История и теория исторического знания
Статья в выпуске: 4 (51), 2020 года.
Бесплатный доступ
При рассмотрении вопросов, поднятых в новой книге коллектива историков из Екатеринбурга, основное внимание уделяется тому, как они оценивают имеющиеся подходы к изучению социальной стратификации. Сделанный ими вывод о недостатках использования сословно-классовой парадигмы как объяснительной концепции при исследовании общественных отношений в России можно признать одновременно и обладающим высокой степенью научного интереса, и весьма дискуссионным. Критический анализ указанной парадигмы ведет авторов монографии к пересмотру принятых в исторической науке «макросоциологических» паттернов, к предложению и продвижению ориентированных на конкретные исследовательские задачи оригинальных методологических приемов в ходе изучения социального расслоения в российском обществе. Способы социального конструирования, применяемые с конца XVII до середины ХХ в., были определены потребностями и дискурсами русских элит, при этом разными их группами использовались разные концептуальные стратегии для формирования социальной структуры. В результате появлялись модели общественных структур, которые не представляют, вопреки мнению многих историков, «объективную» социальную реальность, хотя и заслуживают самого тщательного изучения. Переходя от обобщений к конкретным историческим ситуациям, уральские исследователи анализируют в качестве образцов ряд социальных моделей из прошлого. В их числе рассматриваются архаичная категория холопов, «вечноотданные» и европейские специалисты как особые группы населения на старых уральских заводах, «микрокорпорация» выпускников Императорской школы правоведения, партийная «номенклатура» советского периода отечественной истории, «атомная» общность ученых и специалистов в «закрытых» городах СССР и др.
Современная историография, новая социальная история, сословная парадигма в истории России, общественные классы
Короткий адрес: https://sciup.org/147246331
IDR: 147246331 | УДК: 930:1:316 | DOI: 10.17072/2219-3111-2020-4-163-172
Текст научной статьи Осмысление, конструирование и моделирование социального в истории России: новые подходы в коллективной монографии уральских ученых
Высказанное нами ранее суждение о возможности создать «всестороннюю непротиворечивую картину» российской социальной истории является данью уважения тем, кто берется за такой труд. Однако оно не означает признания каких-либо подходов к задачам социальной истории из тех, что имеются сейчас в историографии, исключительно верными и единственно возможными [ Smirnov , 2016, с. 945]. Упоминая при этом взгляды на социальную историю России представителей уральской академической науки, развивающих теорию модернизации, мы также не имели в виду, что исчерпывающе охарактеризовали все позиции ученых Екатеринбурга в данной области исторического знания.
Ныне российская и глобальная «новая социальная история» пополнилась основательным и ценным трудом, предлагающим новые подходы к ее проблемам и стимулирующим поиски научных решений, выводов, доказательств [Границы…, 2018]. Появилась благоприятная возможность и стала настоятельной потребность детально оценить подходы еще одной из ведущих групп уральских специалистов в области социальной истории, то есть в сфере исследований, находящейся, пожалуй, на методологическом острие нашей науки. Заявленный в 2014 г. проект, за работой над которым по выходившим статьям внимательно наблюдали коллеги из различных университетов и научных учреждений, теперь завершен созданием обобщающего труда, который выполнен авторским коллективом, возглавляемым Д.А. Рединым. Вышло фундаментальное издание, привлекшее не менее пристальное внимание, чем другие коллективные
работы, выполненные в 2010-е гг. в том же Екатеринбурге под руководством И.В. Побережни-кова [Акторы…, 2016] и Е.В. Алексеевой [Роль…, 2014].
Вообще этот город, надо отметить, приобрел в постсоветское время значение не только всероссийского, но и глобального центра самых современных разработок в области отечественной истории. Прокладка новых «векторов исследования» в столице Урала стала привычной для научного сообщества. Однако если прежде вышедшие коллективные издания были подготовлены в русле развития, углубления, сближения модернизационной и цивилизационной концепций, то новая монография написана в ином методологическом ключе. Это вызывает особый интерес.
Книга включает три раздела, разбитых на главы. В каждом из них предлагается взглянуть на проблемы «новой социальной истории» России с разных ракурсов. Первый раздел – «Осмысление социального» – содержит обзор и анализ мнений современных исследователей о заявленных проблемах. Второй раздел озаглавлен «Конструирование социального», он посвящен социальной структуре российского общества. В третьем разделе рассматриваются отдельные «модели социального», существовавшие в этом обществе в XVII–XX вв.
Д.А. Редин, который является ответственным редактором книги, выступил автором «Введения», «Заключения» и вместе с Д.В. Тимофеевым первой главы раздела «Осмысление социального», где анализируется адаптация социологических моделей в исторических исследованиях. В этих частях книги, а также во второй главе первого раздела, написанной О.К. Ермаковой, Н.В. Мельниковой, Д.А. Рединым и посвященной собственно историографии «новой социальной истории», изложены методологические основы проекта.
Руководитель проекта увидел его основную задачу не в выборе «правильной» теории «большой истории» из нескольких или в их синтезе, на что часто были нацелены другие исследователи и их коллективы. Д.А. Редин поставил под сомнение применимость к истории российского социума сословно-классовой парадигмы, которая, по его мнению, на уровне любых мак-роисторических обобщений «значительно упрощает социальную реальность» [Границы…, 2018, с. 106, 117].
Очевидно, что отказ от признания сословий и/или классов основой стратификации и структуры российского общества означает расхождение не только с марксистской историографией советского времени, но и со значительной частью историков XIX – начала XX в., а также с большинством современных ученых. Не нужно приводить тому много примеров. Не случайно в новейших исследованиях сословные и социальные проблемы тесно переплетены в истории XVIII в. [ Артамонова , 2019, с. 106, 117]. Историки констатируют превращение социальной структуры из сословной в профессионально-классовую в период между Великой реформой и революциями начала XX в. [ Миронов , 2019, с. 19]. Подробно также изучается складывание профессиональных групп и общественных классов как элементов новой социальной структуры в регионах России [Акторы…, 2016, с. 30, 38, 134].
Невзирая на авторитеты, на то, что несогласные коллеги составляют большинство и их хорошо известная аргументация воспринимается с должным вниманием, авторы в обоснование своей позиции находят собственные аргументы. Они обращаются к разработкам социологической науки и «новой социальной истории» как к доказательствам ненадежности априорного принятия любой схемы общественной структуры: классового и цивилизационного подходов в исторической науке; теории перехода от «аграрного общества» к «индустриальному» и «постиндустриальному»; концепции смены «традиционного» социума «современным». В монографии утверждается, что все такие схемы неизбежно вступают в конфликт с историческими фактами. Контрпродуктивно рассматривать этот конфликт как «кризис» конкретной методологии и надеяться на его преодоление в конструировании новой схемы или в рецепции схемы, «ранее кем-либо созданной». Этими попытками можно лишь отсрочить возникновение нового «противоречия выбранной модели и фактического материала». Кроме того, нельзя забывать об «удвоении» диссонанса между теориями и эмпирическими наблюдениями. Ведь современные схемы вступают в конфликт не только с фактами, но и с представлениями прошедших эпох, когда использовались совсем иные «первичные схемы» осмысления и объяснения социальных структур [Границы…, 2018, с. 6–7].
Нельзя отказать такому теоретическому построению в последовательности. Продемонстрировав в свое время симпатию (с некоторыми оговорками) к модернизационной теории, Д.А. Редин, кажется, не без некоторого сожаления отказался теперь от нее, как и от других «макроисторических» схем. Эта теория упомянута в монографии лишь как современная рецепция, замена марксистской схемы [Границы…, 2018, с. 6]. Излагая свое восприятие позиции Б.Н. Миронова (модернизационной в основе) и отведя ей почти десять страниц текста, весьма обстоятельного и достаточно лояльного взглядам санкт-петербургского ученого, с рядом положений которого авторы монографии вполне солидаризировались, Д.А. Редин и Д.В. Тимофеев, тем не менее, ни разу не употребили слова «модернизация». Обратив особое внимание на признание Б.Н. Мироновым условности категорий «класс» и «сословие», на употребление в его работах иных «стратификационных систем», редактор и авторы книги нашли основание вновь поставить вопрос о «корректности использования сословно-классовой парадигмы» [Границы…, 2018, с. 107–117]. Между тем сам Б.Н. Миронов не высказывает сомнения ни в применении сословной парадигмы к отечественной истории, ни в трансформации российских сословий в классы, хотя не принимает при этом былую абсолютизацию классового подхода, ведущую к «упрощению» и «уплощению» истории [ Миронов , 2018, с. 593, 652].
Авторы рассматриваемой монографии в целом хорошо ориентируются в отечественной литературе вопроса о социальной стратификации/структуре российского общества до и после революции. Ими внимательно был проанализирован ряд основательных работ по дореволюционному периоду (А.П. Павлов, Н.В. Дунаева, С.В. Черников, Т.А. Лаптева, А.Б. Каменский, О.Е. Кошелева, Н.В. Киприянова, А.И. Куприянов, Н.А. Иванова, В.П. Желтова и др.). То же относится к трудам по истории советской эпохи (О. И. Шкаратан, В. В. Радаев, В. И. Ильин, М.Н. Руткевич). Преобладание в них «сословно-классовой парадигмы» очевидно, но это также не подвигло к ее приятию в данной монографии.
Определенная теоретическая тенденция была проявлена и в размышлениях о том, почему «социальная стратификация подвижна и изменчива». Это справедливое наблюдение о свойствах искомых «границ и маркеров» объясняется, судя по тексту монографии, реальной множественностью социальных страт, а также критериев, лежащих в основе их выделения [Границы…, 2018, с. 118]. Однако при этом в теоретической части проекта не учитывается такой фактор наблюдаемой изменчивости общества, как социальная мобильность. Остается неясным, то ли социальная мобильность признана фактором несущественным, то ли она оказалась пропущенной технически в ходе работы над этой частью монографии.
В то же время в конкретных очерках других разделов монографии, например, о служилых людях или горнозаводском населении, социальная мобильность признается. Что касается материалов по советскому периоду, то здесь данный фактор принимается безусловно, поскольку «один из признаков индустриального общества – социальная мобильность» [Границы…, 2018, с. 567]. Вообще следование за положениями, высказанными в теоретическом разделе монографии, не выглядит обязательным и единодушным для всех участников проекта, что видно из текстов авторов второго раздела книги и еще более заметно – из третьего раздела.
Раздел «Осмысление социального» является первым не только по порядку, но и по значимости в монографии. В нем рассматриваются как «исторический поворот в социологии», так и поиски «генерализирующих понятий» для «новой социальной истории», в том числе лежащих в сфере других социально-гуманитарных наук.
Для читателя книги, знакомого с вышедшими ранее работами членов данного авторского коллектива, не стало неожиданностью большое внимание, уделенное методологическим подходам, что свидетельствует об уходе от изучения макроструктур. Этим авторам интересны такие концептуальные модели исследования социального, которые включают применимые в историческом анализе методики, используемые прежде всего для выявления «социальной идентификации и реконструкции различных форм взаимодействий индивидов» [Границы…, 2018, с. 43–44]. К их числу отнесены «фигуративная социология», «теория структурации», «теория интеракционных ритуалов», «теория подражания» [Границы…, 2018, с. 28].
На передний план выводится «поиск методологических оснований» для теорий так называемого «среднего уровня». Такие теории позволяют, как ожидается, преодолевать статичность макроисторических схем и одновременно сохранять возможность обобщений, которая исчезает при увлечении микроанализом, оставляющим после себя «историю в осколках» [Границы…, 2018, с. 26, 118].
Авторы (в данном случае Д.А. Редин и Д.В. Тимофеев) не останавливаются перед тем, что привлеченные ими подходы могут привести «к отрицанию реальности любых долговременных структур» и общественных групп «как особой формы проявления социального». Они считают более важным исследовать «многообразие и динамичность общественных процессов» [Границы…, 2018, с. 44].
Прямое следование социологическим теориям при изучении прошлого, впрочем, признается в монографии невозможным из-за недоступности для историка методов наблюдения, эксперимента, анкетирования, опроса (с чем нельзя полностью согласиться). Это методическое ограничение можно преодолеть только тщательным анализом текстов исторических источников, включая те, ценность которых состоит, как было отмечено, в ином контексте, «в демонстрации поведения индивидов» [ Redin, Soboleva , 2018, р. 638].
Исследовательский арсенал изучения истории текста источников авторы книги настоятельно рекомендуют пополнить «анализом языковых практик» с помощью методов «истории понятий». При этом поддерживается и её немецкий вариант Р. Козеллека, и англосаксонский Дж. Покока, К. Скиннера, и российский А. Бикбова.
Шаги со стороны историков на сближение с социологией рассматриваются прежде всего на опыте, накопленном «новой социальной историей» во Франции, характеризующемся заметным переходом от изучения «структур» к определению «сетей». Н.В. Мельникова, автор этой части аналитического обзора, подчеркивает отказ французских исследователей от изучения классов в пользу обращения «к разным по своей природе группам или категориям». Какие-то из них складывались стихийно, другие – под воздействием законодательства, воплощая и «господство», и «маргинальность» [Границы…, 2018, с. 62].
Внимание авторов монографии привлек наблюдающийся среди французских исследователей отход от концепта «менталитет», существующего в подсознании людей. Предпочтение отдается категории «представления» как основе «непосредственной человеческой деятельности». Это обусловлено не только утверждением «парадигмы l’action», но и тем, что в прошлое нашей науки уходит «минималистское обращение с индивидом», когда большие группы определялись общностью «экономических реалий, которые обусловливают менталитет» [Границы…, 2018, с. 58, 63]. Схожие тенденции при осознанном выборе «коллективных представлений» в качестве инструментария вместо «менталитета», предложенного школой «Анналов», проявляются в отечественных исследованиях [ Artamonova , 2016, с. 900].
Авторы не могут не признать, что понятие «класс» в современной литературе используется достаточно широко, хотя полагают, что это более характерно для западной историографии, чем отечественной. Однако и там и здесь данная категория выглядит размытой в отличие от понятия «сословие», которое оказалось наделенным большей устойчивостью и определенностью. Впрочем, Д.А. Редин не стал углубляться в рассмотрение того, наличествуют ли обе категории в социуме западных стран. При сопоставлении же с эмпирическими реалиями российского общества четкость сословной структуры и само ее наличие, по его мнению, оказываются призрачными [Границы…, 2018, с. 74].
В качестве подтверждения данного тезиса или для развертывания полемики вокруг него в книге были приведены взгляды большого числа авторитетных российских специалистов и западных историков (Г. Фриз, А. Рибер, М. Конфино, Э. Виршафтер, Д. Рансел, И. де Мадариага, Р. Мунье). Например, Э. Виршафтер, подчеркивая значимость социоэкономических, юридических и социокультурных категорий общества в имперской России, указывала среди самых важных признаков их формирования распространение и доступность образования [Границы…, 2018, с. 81]. Между тем в отечественной литературе, считаем, уже показано, что этот фактор выполнял функции не препятствия общественному развитию, а скорее социального лифта, поскольку российское самодержавие понимало необходимость распространения образования и принимало меры по его поддержке [ Артамонова , 2013, с. 112].
Главным в разделе «Осмысление социального», по мысли авторов, является подтверждение уже озвученного вывода о подвижности и изменчивости социальной стратификации. Новая интегративная модель общественных процессов в конкретно-исторических исследованиях не должна основываться на поиске «жестких детерминант, определяющих поведение индивидов» [Границы…, 2018, с. 26]. Искомая модель должна сочетать в себе не умозрительную, а «объективно существовавшую иерархию, основанную на неравенстве в распределении материальных и властных ресурсов» с признанием «особой роли нематериальных факторов, объединяющих и разъединяющих людей» [Границы…, 2018, с. 121].
Из-за сложности задач данной монографии и их неподъемности силами одного коллектива ее второй раздел – «Конструирование социального» ограничивается изучением «властного дискурса». Здесь ведется речь о восприятии социального устройства «правящими элитами» России в XVII–XX вв. В отличие от творцов «научного дискурса» власть придает своему восприятию нормативный характер, «конструирует социальное пространство». Однако надо выяснять, насколько создаваемые социальные конструкции совпадали с реальностью, поскольку «ежедневными (индивидуальными и коллективными) творцами социальных практик» все равно являлись многочисленные подданные империи. Исследователи также хотят понять, в каких категориях лица, наделенные властью «и умевшие строить обобщения, оценивали социальное устройство общества; какой смысл они вкладывали в термины, маркировавшие социальность; как эволюционировала семантика этих терминов; как создавались социальные классификации». Это позволяет уяснить, как и насколько «ретроспективные дискурсы» социальной стратификации «коррелируют с современными» [Границы…, 2018, с. 15–16].
«Конструирование социального» строится в четырех главах. Три из них следуют хронологическому признаку. М.А. Киселев рассматривает правительственный дискурс и законодательство как проявления государственной политики относительно социального структурирования в XVII – начале XIX в., Г.Н. Шумкин – социальную структуру и вопрос о наличии эволюции сословий в Российской империи преимущественно дореформенного периода, а К.Д. Бугров – «Социальную инженерию советской власти». Им же написана еще одна глава о социальной структуре в представлениях российской элиты XVIII столетия, которая несколько выбивается из общей временн о й и тематической последовательности. Хронологически она пересекается с первой главой, но речь в ней идет не о «властном дискурсе». Дискурс, исследуемый здесь, автор готов назвать «неправительственным» или «общественным», принимая, однако, во внимание, что в XVIII столетии общество формировалось прежде всего из элитарного слоя жителей России [Границы…, 2018, с. 155].
Если М.А. Киселев считает возможным такие термины социального законодательства изучаемой эпохи, как «люди» или «чины», дополнить «сословиями» в значении «корпораций», то К.Д. Бугров отказывается от «пресловутой» сословной парадигмы. Понятие «сословие» он предпочитает употреблять, да и то очень редко, только относительно дворянства в силу наличия у того функциональных характеристик и особо определенного статуса [Границы…, 2018, с. 158, 170].
Вместе с тем К.Д. Бугров наиболее последовательно использует приемы «истории понятий», вчитываясь в тексты, возникающие «в разных коммуникативных ситуациях». Он подчеркивает, что в изучаемое им время с помощью разных подходов конструировались различные парадигмы стратификации. При этом один подход мог выражаться через функции, именуемые «должностями», присущими каждому «чину». Другой подход заключался в утверждении «особой позиции дворянства» через «социологическое обоснование дворянской исключительности» как прирожденных воинов и судей, господ и начальников. Однако существовал и «эгалитаристский» подход, основанный на отрицании социальной иерархии в традиционном смысле.
Глава, написанная Г.Н. Шумкиным, переносит читателя в эпоху дореформенной России, когда наличие если не классовой, то сословной структуры в социуме не вызывает сомнений у значительной части историков. Но, по мнению этого автора, работа российских правительственных кругов по конструированию новой социальной реальности в течение всего XVIII в. принесла скромные результаты: «Терминологическая пестрота, свойственная дискуссиям о социальной структуре общества в середине – второй половине XVIII в., перекочевала в следующее столетие и осложнилась» [Границы…, 2018, с. 198]. Законодательство наполнилось названиями, не имеющими однозначного толкования, остававшимися из прошлого и появившимися позже: «состояния», «чины», «звания», «роды» и мн. др.
В ситуации, когда пестрота различавшихся по разным признакам (службы, занятия, имущества, этноса, конфессии и пр.) и закрепленных в законах социальных групп создала непростую картину, Г. Н. Шумкин вынужден использовать не применявшиеся тогда, а потому нарочито условные обозначения: «страты», «таксоны», «категории». Четырьмя основными «сословиями» он предлагает считать группы населения, «следуя хорошо известной в Европе традиции разделять общество на тех, кто воюет, кто молится и кто пашет» [Границы…, 2018, с. 205].
Использовать эту классификацию в России было непросто. Так, в категорию «духовенство» оказались включенными 62 «звания» служителей культа разных христианских конфессий. Даже после всех возможных объединений близких по положению крестьянских «званий» автор насчитал 54 категории или 39 групп «сельских обывателей», которых можно отнести к сословию крестьян [Границы…, 2018, с. 207, 216].
Читателя можно отослать к представленным Г.Н. Шумкиным спискам и таблицам групп населения как к ценному справочному материалу, который поможет разобраться в социальной стратификации российского имперского законодательства. В этих материалах неизбежны отдельные недочеты, которых, кстати, очень мало во всем издании. Не совсем точно переданным названием является «гардкотный (гардкоутный) экипаж», и не ясно, почему эта военная команда оказалась в числе «уникальных социально-правовых групп» [Границы…, 2018, с. 252]. Также не совсем понятным выглядит воспроизведение одной и той же схемы соотношения «сословий» и «состояний» на разных страницах и под разными названиями [Границы…, 2018, с. 225, 261].
Что же касается попыток выстроить стратификацию и иерархию на западный манер, то сословиями в полном смысле слова, с точки зрения автора, можно было считать лишь четыре социальные группы: «потомственных дворян», «белое православное духовенство», «городских обывателей», «сельских обывателей на казенных землях» [Границы…, 2018, с. 261]. В число сословий он находит возможным включить и казачество. В итоге значительная часть населения страны оказывается за пределами «сословной» социальной структуры, поскольку все прочие группы населения «являлись сословиями только в широком значении данного термина» [Границы…, 2018, с. 226].
Детальное повествование Г. Н. Шумкина о «сословиях», тем не менее, ставит под вопрос наличие «сословной парадигмы» даже в России XIX столетия. В отношении же имеющегося в историографии положения о смене сословного общества классовым он также высказывает сомнение, поскольку полагает, что сословия и классы определяются по совершенно разным признакам. Точнее было бы говорить о постепенном переходе от сословного к гражданскому обществу [Границы…, 2018, с. 223]. К сожалению, автором не было указано, что в историографии утвердились иные определения гражданского общества, изложенные в работах отдельных исследователей [ Миронов , 2009, с. 110] и коллективных трудах [Самоорганизация…, 2011, с. 9].
Советский период представлен в рассматриваемом разделе ограниченным по объему, хронологии и тематике сюжетом, касающимся большевистского воплощения мечты о создании бесклассового общества путем «жесткой социальной ломки» в 1920–1930-е гг. Затрагивая в главе «Социальная инженерия советской власти» тему, остающуюся острой в научнотеоретическом и идейно-политическом отношении, исследователь создает хороший задел для рассуждений и споров. Они ведутся по поводу социальной структуры и стратификации советского общества, соотношения идеального замысла и реального воплощения. Вместе с тем заслуживают внимания выводы К.Д. Бугрова если не обо всём советском обществе, то, по крайней мере, о восприятии социальных различий и неравенства в общественно-политической мысли советского руководства [Границы…, 2018, с. 266].
Уместно выглядит включение в название главы выражения «социальная инженерия». Оно удачно передает саму технологию «дифференциации во властном слое», которая описывалась с использованием терминологии «кадров», подразумевавшей выдвижение руководителей, осмысленных не как чиновники-бюрократы, а как организаторы-производственники, способные управленцы [Границы…, 2018, с. 313].
На эту «социальную конструкцию», поддерживаемую властью в советскую эпоху, опираются те реальные общественные взаимоотношения, воссозданные в монографии в заключительном, третьем, разделе, названном «Модели социального». Смоделировать российское дореволюционное и советское общество во всей многомерности представляется еще менее выполнимой задачей для ограниченного коллектива, чем выявить описания и схемы социальных отношений, предлагаемые властью и общественностью. В этом разделе вполне разумной смотрится несколько мозаичная композиция из отдельных «моделей», выстроенных на основе реального соотношения активности власти и различных групп населения. Понятно, что выбор «моделей» во многом субъективен, будучи продиктован исследовательскими предпочтениями авторов. Тем не менее относительно советского времени сделано точное попадание «в десятку». Опыт создания советской «конструкции» социального с включением в «красную интеллигенцию» как руководителей, так и специалистов, показанный во втором разделе монографии, проиллюстрирован в третьем разделе. В его седьмой главе А. В. Сушков и С. В. Воробьев написали социальный портрет региональной партийной номенклатуры от Сталина до Брежнева. Восьмую главу подготовила Н. В. Мельникова, озаглавив ее: «“Атомная” общность советского ядерно-оружейного комплекса (1940–1970-е гг.)».
Среди выводов, сделанных в двух названных главах, обращает на себя внимание наблюдение о методах контроля центральной партийной власти над региональной элитой, в том числе путем противодействия установлению «патрон-клиентских связей». Отказ от пусть даже несовершенных практик контроля в 1960–1970-е гг. вел к разложению на всех уровнях управления, формированию в партийно-государственном аппарате представлений о своем всевластии и чувства безответственности, а в дальнейшем – к краху советской системы [Границы…, 2018, с. 562].
Иные по-своему интересные социальные последствия имело становление особой «субкультуры» в «сообществе советского атомного проекта». Там в основе социального ранжирования лежали личные качества и таланты, а интересы и ценности элиты данной общности и ее массового контингента были очень близки [Границы…, 2018, с. 652].
Участниками проекта были выбраны также несколько «моделей», воплотившихся в социальном строе дореволюционной России, которые с большим мастерством воссозданы в других главах третьего раздела. В.А. Аракчеев подготовил главу «Холопы: институт, не ставший кастой». Вместе с Е.В. Бородиной он же написал главу «Служилые люди: от квазикорпораций к сословию». Группы населения, различающиеся по признакам географическим, национально-культурным, профессиональным, были описаны в трех главах: «Борьба за юридический статус: уральские вечноотданные XVIII в.» (Д.А. Редин), «"Чужие среди своих": социальный статус иностранных специалистов в России XVIII – первой половины XIX в.» (О.К. Ермакова), «Становление корпорации юристов на государственной службе Российской империи» (Д.О. Серов).
Особым образом строится шестая глава. Объектом рассмотрения О.Н. Яхно стали социальные маркеры в зеркале прессы начала XX в. С одной стороны, затронутая в главе «культурная идентификация» ближе к проблеме «коллективных представлений», затронутой в первом разделе, или к «общественному дискурсу» в конструировании социальных отношений, упоминавшемуся во втором разделе. С другой стороны, «очерковость» данного весьма интересного сюжета вполне соответствует общей «мозаичности» третьего раздела монографии, где он и помещен. Да и проблемы гендера или бытовой повседневности социальных групп, занимающие в шестой главе важное место, не были предметом особого внимания в ходе разговора об «осмыслении» и «конструировании» структуры российского общества в первых двух разделах книги. Они были подняты в ряде глав ее заключительного раздела. Примером может служить рассмотрение вопросов о месте женщин в партийной номенклатуре, о материальных и духовных преференциях, получаемых обитателями «закрытых» городов.
Впрочем, ответственный редактор издания заранее предупредил о том, что спектр вопросов современной «социальной истории» имеет «такой всеохватывающий масштаб», который «чреват утратой предмета исследования». Среди вопросов, которые были неполностью охвачены и не включены в итоги исследования в целом, оказались проблемы и гендера, и урбанистики [Границы…, 2018, с. 21].
В Заключении Д.А. Редин, несмотря на негативное отношение к «сословно-классовой парадигме», высказываемое в первых двух разделах основного текста, признает наличие в российском социуме XVII - XIX вв. «сословной решетки». Это сделано при допущении, что все признаки сословности сведены только к юридически определенной иерархии привилегий и норм, а все общество представлено «состоящим из лиц и групп с нормативно предписанным статусом» [Границы…, 2018, с. 665].
Эта «решетка» оказывается опутанной «сетью» хозяйственных, рыночных, то есть классовых, отношений. Тем не менее руководитель коллектива и редактор издания сохраняет уверенность в том, «что описание российского общества Нового времени в духе классовых категорий не имеет смысла» [Границы…, 2018, с. 672].
Менее резкой становится критика собственно «сословной парадигмы», поскольку вопрос о наличии сословного деления русского общества становится делом «научной конвенции». Сословиями в узком смысле значительные социальные группы населения нашей страны, не имевшие ряда необходимых признаков, не являлись. Однако, как сказано, если из этих признаков оставить только наличие юридического неравенства, то российское общество рассмотренных в монографии столетий можно было бы считать сословным [Границы…, 2018, с. 665].
Правда, при таком подходе в сословную классификацию становится возможным включить разные категории «людей» доимперской эпохи и даже более ранних периодов, а также приходится признать если не убедительными, то и не «экстравагантными» мнения некоторых современных авторов о сословном характере советского общества [Границы…, 2018, с. 675].
Судя по контексту, готовности присоединиться к «конвенции» о признании сословного деления российского общества Д.А. Редин и авторы книги не выказывают. Впрочем, они отмечают, что в монографии удалось проанализировать «лишь малую долю из той динамичной системы социальных конфигураций, которые возникали на протяжении четырехсотлетней российской истории» [Границы…, 2018, с. 676]. Тем не менее создатели книги справедливо считают, что предлагаемые в коллективном исследовании решения вносят ценный вклад в знания о принципах и маркерах общественной стратификации. Члены авторского коллектива готовы продолжить обсуждение эмпирического материала и теоретических представлений о методах его изучения. Не случайно создатели монографии осознают, что и они сами, и другие исследователи сейчас и в будущем могут предложить только «очередной» вариант ответа на постоянно ставящийся вопрос «Как устроено общество?» [Границы…, 2018, с. 676].
Остается только согласиться с данным выводом. «Очередной» вариант ответа не значит «проходной» или «временный». Один из новых «векторов» научного изучения социальной стратификации и структуры в прошлом, несомненно, определен. Ему далеко не всякий будет следовать. Однако считаться с его наличием в историографии все равно придется, как и вступать в обсуждения или споры по вопросам, поднятым авторами «Границ и маркеров социальной стратификации России». Можно признать, что не только отечественная, но и международная база изучения «социальной истории» пополнилась основательным трудом. Его значение в полной мере еще предстоит оценить, а сделанный авторами вклад в науку – освоить.
Список литературы Осмысление, конструирование и моделирование социального в истории России: новые подходы в коллективной монографии уральских ученых
- Акторы российской имперской модернизации (ХУШ - начало XX в.): региональное измерение / отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2016. 316 с.
- Артамонова Л.М. Взаимосвязь Просвещения и социальной эмансипации в представлениях Екатерины II и ее сотрудников: от "культурного шока" к модернизационным практикам // Quaestio Rossica. 2019. Т. 7, № 2. С. 525-538.
- Артамонова Л.М. Политика в сфере народного просвещения в Поволжье (XVIII - первая половина XIX в.) // Российская история. 2013. № 2. С. 101-113.
- Границы и маркеры социальной стратификации России XVИ-XX вв.: векторы исследования / под ред. Д. А. Редина. СПб.: Алетейя, 2018. 722 с.
- Миронов Б.Н. Развитие гражданского общества в России в XIX - начале XX века // Общественные науки и современность. 2009. № 1. С. 110-126.