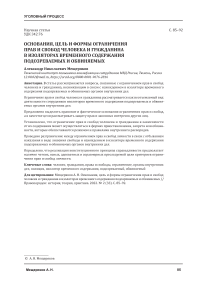Основания, цель и формы ограничения прав и свобод человека и гражданина в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Автор: Мещеряков А.Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (33), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина, возникающим в связи с нахождением в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. Ограничение прав и свобод человека и гражданина рассматривается как неотъемлемый вид деятельности сотрудников изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. Предложено выделять правовое и фактическое основания ограничения прав и свобод, а в качестве цели рассматривать защиту прав и законных интересов других лиц. Установлено, что ограничение прав и свобод человека и гражданина в зависимости от их содержания может осуществляться в формах приостановления, запрета или обязанности, которые обеспечиваются режимом и правилами внутреннего распорядка. Проведено разграничение между ограничением прав и свобод личности в связи с отбыванием наказания в виде лишения свободы и нахождением в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. Определено, что реализация конституционного принципа справедливости предполагает наличие четких, ясных, адекватных и соразмерных преследуемой цели критериев ограничения прав и свобод личности.
Человек, гражданин, права и свободы, ограничение, органы внутренних дел, полиция, изолятор временного содержания, подозреваемый, обвиняемый
Короткий адрес: https://sciup.org/14124357
IDR: 14124357 | УДК: 342.76
Текст научной статьи Основания, цель и формы ограничения прав и свобод человека и гражданина в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Russian Ministry of Internal Affairs, Tyumen, Russia ,
Вопросы обеспечения прав и свобод личности в деятельности органов внутренних дел в юридической науке являются одними из наиболее актуальных и по этой причине привлекательных для исследования. На запрос «обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел» научная электронная библиотека eLIBRARY.RU предлагает 237 материалов.
На первый взгляд данная цифра кажется внушительной, но и деятельность органов внутренних дел весьма многогранна. Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации1 закреплено 107 пол- номочий МВД России, в ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2 (далее — Закон о полиции) установлено 9 основных направлений деятельности полиции, Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» предусмотрено 17 видов полномочий полиции по подразделениям, организациям и службам. Все эти направления, пусть и в разной мере, связаны с правами и свободами человека и гражданина, поскольку в них заключается сущность всей деятельности органов внутренних дел.
Если поделить 237 научных работ, посвященных обеспечению прав человека в деятельности органов внутренних дел, на все направления этой деятельности, то получится менее 3 публикаций на каждое. Такое количество работ с учетом особой значимости прав и свобод личности как объекта исследования представляется ничтожно малым.
Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина определяют деятельность исполнительной власти. Главной задачей органов внутренних дел, включая подразделения полиции, является выполнение этой единственной конституционной обязанности государства. Любое неверное толкование конституционных положений, правоприменительные ошибки в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел могут привести к нарушениям прав и свобод человека, поэтому данные вопросы представляют значительный интерес как для практиков, так и для ученых.
Еще более актуальной для научного анализа является сфера ограничения прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел. На соответствующий запрос научная электронная библиотека предлагает 23 публикации. Такое сравнительно небольшое количество работ в данной области исследований совсем не означает, что в ней отсутствуют проблемы, требующие научного осмысления. Наоборот, это указывает на малоизученность этих крайне важных как для юридической науки, так и для оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел вопросов.
Описание исследования
При выполнении возложенных задач органы внутренних дел имеют право и обязаны осуществлять правомерное ограничение прав и свобод человека и гражданина. Без этого невозможно осуществление многих полномочий, возложенных на полицию. Такое ограничение является правомерным, поскольку основывается на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены при одновременном соблюдении двух обязательных условий: наличие правового основания (соответствующего федерального закона) и цели — конечного результата, который выражается в защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечении обороны страны и безопасности государства.
В современной науке конституционного права существует несколько классификаций ограничений прав и свобод по видам. Среди них встречается деление на общие ограничения правового статуса человека и гражданина, которые налагаются на субъектов правоотношений в обычных (нормальных) условиях функционирования общества и государства, и специальные ограничения. Вторые могут быть связаны с территорией, на которой, например, введены специальные правовые режимы (чрезвычайного положения, контртеррористической операции, повышенной готовности и т. д.), их называют специальные ограничения по территории, либо с особенностями правового статуса лица (сотрудники органов внутренних дел, лица, признанные недееспособными, подозреваемые, обвиняемые, осужденные и т. д.), так называемые специальные ограничения по субъекту [6, с. 115].
Если для применения общих ограничений достаточно правового основания и конституционно закрепленной цели, то специальные ограничения выделяются из общего порядка, поскольку предполагают наличие особых установленных федеральным законом обстоятельств, с которыми связано их возникновение. К этим обстоятельствам относятся введение специального правового режима, обретение особого правового статуса и т. д. Эти обстоятельства можно рассматривать в качестве фактических оснований возникновения специальных ограничений прав и свобод. Выделение указанных фактических оснований позволяет обеспечить дифференцированный подход, при котором каждому субъективному праву становится присущим свой собственный набор оснований [2, с. 36].
Законом о полиции и иными федеральными законами на органы внутренних дел и, в первую очередь, на полицию возложены полномочия, связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина. В основном эти полномочия реализуются в повседневной служебной деятельности (проверка документов, проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории и т. д.), таким образом реализуются общие ограничения правового статуса. Наряду с этим органы внутренних дел в соответствии с законом привлекаются к обеспечению особых правовых режимов, а также осуществляют полномочия в отношении лиц, обладающих специальными правовыми статусами, в этих случаях происходит реализация специальных ограничений правового статуса личности, обусловленных возникновением указанных обстоятельств.
Среди основных направлений деятельности МВД России некоторые полномочия практически не предполагают ограничения прав и свобод личности. Это, например, прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях, осуществление экспертно-криминалистической деятельности, государственная защита защищаемых в соответствии с законом лиц и др. Многие полномочия прямо допускают возможность применения ограничительных мер. Это, например, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и т. д.
Третий в предложенной классификации вид полномочий прямо предназначен для правомерного ограничения прав и свобод человека и гражданина. Это, в частности, содержание, охрана и конвоирование задержанных, подвергнутых административному аресту и (или) заключенных под стражу лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (далее — ИВС).
Правовым основанием для применения ограничений прав и свобод человека и гражданина в указанном виде деятельности полиции является Конституция РФ, предусматривающая саму возможность их ограничения, Закон о полиции, а также регулирующий эту сферу правоотношений Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1 (далее — Закон о содержании под стражей).
Фактическим основанием, в связи с которым у лица, помещенного в ИВС, возникают специальные ограничения прав и свобод по субъекту, является возникновение особого правового статуса — статуса подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. В соответствии со ст. 46, 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее — УПК РФ) такой статус возникает в связи с наличием достаточных оснований полагать причастность лица к совершению преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы.
Но в таком виде фактическое основание является неполным, поскольку статус подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления может предполагать различный объем ограничений прав и свобод. Не все меры уголовно-процессуального принуждения связаны с содержанием под стражей.
Согласно ст. 5 Закона о содержании под стражей основанием для содержания человека в ИВС является протокол задержания или судебное решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому более правильным фактическим основанием следует считать задержание в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, или избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем согласно УПК одновременно возникает статус подозреваемого в совершении преступления, а в случаях, указанных в ст. 47 УПК РФ, обвиняемого.
Фактическим основанием также может являться заключение лица под стражу в связи с постановлением прокурора, вынесенным в порядке исполнения ч. 2 ст. 466 УПК РФ. Но по последствиям в виде помещения лица в ИВС его можно рассматривать как вариант избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Не менее важным условием ограничения прав и свобод человека и гражданина является цель, для достижения которой оно осуществляется. Это тот конечный результат, во имя которого ограничительные меры применяются, и он, несомненно, должен преследовать социальную ценность, более важную, чем те права и свободы, которые ограничиваются.
Закон о содержании под стражей в ст. 3 «Цели содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» эту цель не раскрывает, а отсылает к УПК РФ: «содержание под стражей осуществляется в целях, предусмотренных УПК РФ». Но и данная отсылочная норма не позволяет ее обнаружить, поскольку в УПК РФ искомые цели содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в прямой постановке отсутствуют.
Во многих работах специалистов в области уголовно-процессуального права в качестве целей применения мер пресечения предлагается рассматривать положения ст. 97 УПК РФ [9, с. 43; 15, с. 151], в которой закреплены основания для избрания меры пресечения. С этим совершенно справедливо не соглашается А. С. Барабаш, указывая, что «основания мы не можем рассматривать в качестве целей» [3, с. 186]. Определяя цель как главную задачу любой деятельности, А. А. Макогон также приходит к выводу о том, что цели применения мер пресечения должны быть четко определены, поскольку иное препятствует необоснованному или чрезмерному ограничению прав и свобод участников уголовного судопроизводства [9, с. 45].
Но, несмотря на единодушное мнение о том, что применение мер пресечения должно преследовать вполне конкретные цели, формально-юридически в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, из которой данные цели выводят посредством умозаключений [14, с. 72], установлены основания, а не цели.
Поскольку цель содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ни в Законе о содержании под стражей, ни в УПК РФ не определена, следует обратиться к вышестоящему правовому акту — Конституции РФ, руководствуясь такими ее юридическими свойствами, как верховенство и прямое действие.
Цель ограничения прав и свобод человека в ИВС, очевидно, должна быть связана с задачами уголовного судопроизводства и применения мер процессуального принуждения. К ним в уголовно-процессуальной науке, как правило, относят недопустимость дальнейшего осуществления противоправной деятельности, исключение возможности воспрепятствования расследованию уголовного дела, в том числе давления на иных участников процесса, невозможность избежать правосудия [8, с. 183; 16, с. 110]. Решение указанных задач позволяет предупредить нарушение прав и законных интересов других лиц. Они призваны не позволить подозреваемому (обвиняемому) преодолеть тот невидимый барьер в виде прав и свобод других лиц, который установлен ч. 3 ст. 17 Конституции РФ.
Таким образом, ограничение прав и свобод человека и гражданина в ИВС осуществляется для достижения указанной в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ цели — защиты прав и законных интересов других лиц.
Итак, правовым основанием ограничения прав человека в связи с нахождением в ИВС являются Конституция РФ, УПК РФ, Закон о полиции, Закон о содержании под стражей, а также иные федеральные законы. Фактическим основанием — задержание в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, или избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Целью такого ограничения является защита прав и законных интересов других лиц.
Переходя к рассмотрению форм ограничения прав и свобод человека и гражданина в ИВС, следует отметить, что они, в первую очередь,связаны с лишением подозреваемых и обвиняемых свободы.
Лишение свободы является едва ли не самой строгой формой ограничения прав и свобод человека и гражданина, поскольку предполагает изоляцию осужденного от общества. Ограничение прав и свобод в виде изоляции от общества применяется как в отношении подозреваемых и обвиняемых, находящихся в ИВС, так и в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Но если в первом случае это мера процессуального принуждения, то во втором — вид уголовной ответственности.
Несмотря на одинаковую форму (изоляция от общества) ограничения прав и свобод человека и гражданина, возникающие в указанных случаях, имеют ряд отличий, среди которых самым существенным является цель, которую преследует установление режима изоляции.
Согласно ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ основной целью применения наказания является восстановление социальной справедливости. Ту же цель преследует такой неотъемлемый принцип юридической ответственности как ее неотвратимость [5, с. 206].
Понятие справедливости является универсальной, но в своей основе нравственной категорией, в упрощённом виде выражающейся формулой: «каждому по заслугам». Это относится как к распределению благ, так и к определению меры наказания [13, с. 536–537]. И если в Конституции РФ данное понятие встречается только в преамбуле и в ст. 75 применительно к системе пенсионного обеспечения, это не значит, что справедливость не имеет конституционного значения для иных общественных отношений.
Справедливостью пронизана вся Конституция РФ и особенно ее первая и вторая главы. Это конституционная ценность, которая встречается во многих правовых позициях Конституционного Суда РФ, приобретая не только ценностное, но и правоприменительное значение. Понятие справедливости является смыслообразующим, и оно отображает саму его сущность — это не только высшая, но и вечная цель права1.
Таким образом, ограничение прав и свобод человека и гражданина при отбывании им наказания в виде лишения свободы основной целью преследует восстановление справедливости как универсальной вечной ценности. В качестве второстепенной — исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
Нахождение человека в ИВС преследует совершенно иную цель — защиту прав и законных интересов других лиц. Она выражается в пресечении преступной деятельности, исключении возможности нарушения прав иных участников уголовного судопроизводства, обеспечении всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела.
Принцип справедливости в данном случае выражается не в качестве цели, поскольку нет оснований для юридической ответственности, а в качестве принципа, обеспечивающего законность самого помещения лица в ИВС.
Справедливой такая мера пресечения будет являться только в том случае, если преследуемая ее применением цель (защита прав и законных интересов других лиц) соразмерна наступающим в связи с нахождением в ИВС ограничениям прав и свобод человека и гражданина.
Также принцип справедливости при нахождении лица в ИВС приобретает форму правила, которое выражается в экономии вмешательства — запрете чрезмерных ограничений, подменяющих само назначение права или свободы. Такое толкование указанного принципа соответствует правовым позициям Конституционного Суда РФ о том, что ограничения прав и свобод человека и гражданина должны быть адекватны социально необходимому результату, не посягать на само существо того или иного права, не ставить реализацию прав и свобод в зависимость от решения правоприменителя, а также исключать возможность несоразмерного ограничения1.
Правомерное ограничение прав и свобод может реализовываться в различных формах. К ним по способу правового регулирования В. А. Толстик относит активные юридические обязанности (позитивные обязывания) и пассивные юридические обязанности (запреты) [12, с. 168]. И. В. Гончаров дополняет этот перечень приостановлением реализации определенного объема прав и свобод [6, с. 115]. Разъясняя указанные формы ограничения прав и свобод, О. В. Пискунова определяет запрет как правовую невозможность совершения запрещенных законом деяний, обязанность же как необходимость, за которой (в случае ее нарушения) стоят меры наказания, а приостановление в качестве временного ограничения возможности пользования правами и свободами [11, с. 387–388].
Нормы Закона о содержании под стражей допускают применение в отношении лиц, находящихся в ИВС, всех трех названных форм ограничения прав и свобод. Их реализация обеспечивается за счет режима, который согласно ст. 15 Закона о содержании под стражей призван обеспечить соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных УПК РФ.
В связи с установленным в ИВС режимом возникает временное ограничение права на свободу, личную неприкосновенность, тайну переписки. Под запрет попадают право на собрания, на свободу предпринимательской и экономической деятельности, право на труд. Возникает много новых обязанностей (ст. 36 Закона о содержании под стражей), за неисполнение которых предусмотрены меры юридической ответственности, включая водворение в карцер или в одиночную камеру на гауптвахте, — мест с более строгим режимом, в которых человек претерпевает дополнительные лишения.
В целях обеспечения режима в ИВС в соответствии со ст. 16 Закона о содержании под стражей приказом МВД России от 22 ноября 2005 г. № 9502 утверждены Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. В них детально регламентируется жизнедеятельность лиц, находящихся в ИВС.
Пусть данными правилами никакие дополнительные ограничения не вводятся (это невозможно по форме нормативного правового акта), детальное регулирование процедур нахождения в ИВС, предусмотренных федеральным законом, практически не оставляет свободы.
Сами по себе правила внутреннего распорядка нельзя рассматривать как ограничение прав и свобод. Подобные правила являются элементом жизни социума. Они, например, предусмотрены трудовым законодательством. Но разница заключается в том, что работник соглашается с налагаемыми этими правилами ограничениями добровольно, поскольку они компенсируются заработной платой, льготами и гарантиями. Для лиц, находящихся в ИВС, их исполнение не является добровольным. Это требование режима — принудительное ограничение прав и свобод.
Режим содержания под стражей многие авторы определяют как установленный законом порядок, включающий в себя систему мер, обеспечивающих непрерывный контроль за поведением подозреваемых, обвиняемых и осужденных в целях соблюдения ими установленных нормативными правовыми актами правил [1, с. 287; 7, с. 51–53].
Таким образом, через режим и правила внутреннего распорядка реализуются все формы ограничения прав и свобод человека и гражданина в ИВС. При этом, режим — это особое положение, в связи с которым ограничиваются права и свободы лиц, а правила внутреннего распорядка — это механизм обеспечения режима.
Поскольку конституционный принцип справедливости предполагает соразмерность и запрет чрезмерных ограничений прав и свобод человека и гражданина, требования режима и правил внутреннего распорядка оправданы лишь в той степени, в какой они вызваны необходимостью, а ограничение прав и свобод возможно до тех пределов, пока оно не вступает в противоречие с истинным назначением самого права [4, с. 23–24].
Следует не забывать и о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ никаким федеральным законом не могут быть ограничены права на жизнь, на достоинство личности, включая право не подвергаться пыткам, насилию и другому жестокому обращению, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; права, связанные с уголовным преследованием, предусмотренные статьями 46–54 Конституции РФ, а также свобода совести и вероисповедания. Указанные права и свободы носят абсолютный характер и не могут быть ограничены ни при каких условиях.
В деятельности сотрудников ИВС важно осознание указанных положений, поскольку, как правило, взаимоотношения человека и представителя власти, даже наделенного малым объемом полномочий, выстраиваются с позиции силы последнего. И это, несомненно, должно учитываться в условиях использования государством ограничений прав человека даже для достижения конституционно значимых целей [6, с. 116].
Проблемы, связанные с чрезмерным ограничением прав и свобод лиц, находящихся в ИВС, как следует из судебной практики, ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, до сих пор весьма актуальны. Нередко встречаются нарушения конституционных прав и свобод личности, даже не связанные с целями их ограничения. Так, например, Л. С. Оводкова указывает на излишние ограничения конституционного права на здоровье в связи с отсутствием должного медицинского санитарного обеспечения, совместным содержанием курящих и некурящих, несоблюдением санитарных норм площади камеры, приходящейся на одного человека, отсутствием естественного освещения и принудительной приточновытяжной вентиляции [10, с. 133–134].
Подобные условия содержания ограничивают в форме приостановления не только право на здоровье, но и право на достоинство личности, которое является абсолютным и ограничению не подлежит. Вместе с тем, любое неправомерное или избыточное ограничение прав и свобод человека и гражданина, не соответствующее цели содержания человека в ИВС, является несправедливым, неконституционным и влечет применение к виновным мер юридической ответственности.
Заключение
Подводя итоги сказанному, можно результаты проведенного исследования изложить в следующих основных тезисах:
-
1. Ограничение прав и свобод человека и гражданина является неотъемлемым видом деятельности органов внутренних дел и, в первую очередь, полиции. Исполняя возложенные полномочия, полиция осуществляет ограничение прав и свобод лиц, содержащихся в ИВС. Данные ограничения прав и свобод являются специальными по субъекту, в связи с чем для них наряду с правовыми основаниями (Конституцией РФ, УПК РФ, Законом о полиции, Законом о содержании под стражей, иными федеральными законами) существуют фактические основания — задержание в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, или избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
-
2. Поскольку цель ограничения прав и свобод человека и гражданина в ИВС в действующем законодательстве не закреплена, на основе верховенства и прямого действия Конституции РФ ее можно определить как защиту прав и законных интересов других лиц.
-
3. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в ИВС в зависимости от их содержания может осуществляться в следующих формах: приостановление, запрет, обязанность.
-
4. Конституционный принцип справедливости при ограничении прав и свобод человека и гражданина в ИВС является не целью, как в случае отбывания наказания в виде лишения свободы, а принципом, обеспечивающим законность помещения лица в ИВС, и правилом, которое выражается в экономии вмешательства — запрете чрезмерных ограничений, способных вступить в противоречие с истинным назначением самого права или свободы. Ограничение прав и свобод должно быть четкими, ясными, адекватными и соразмерными преследуемой цели, не вступать в противоречие с их смыслом и содержанием и не искажать их существо.
Достижение указанной цели обеспечивается исключением возможности дальнейшего осуществления противоправной деятельности, воспрепятствования расследованию уголовного дела, в том числе давления на иных участников процесса, невозможностью избежать правосудия.
Указанные формы ограничения прав и свобод человека и гражданина в ИВС обеспечиваются посредством режима и правил внутреннего распорядка. При этом, под режимом понимается особое положение, в связи с которым ограничиваются права и свободы человека и гражданина, а правила внутреннего распорядка являются правовым механизмом обеспечения режима.
Список литературы Основания, цель и формы ограничения прав и свобод человека и гражданина в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых
- Антонов И. А., Каширин Р. М. Организация режима в местах содержания под стражей: формирование категориального аппарата и основные направления деятельности // Общество и право. 2016. № 2. С. 284-288.
- Астафичев П. А. Конституционный механизм ограничений прав и свобод человека и гражданина // Права человека и правоохранительная деятельность (памяти профессора А. В. Зиновьева): материалы региональной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2017. С. 31-37.
- Барабаш А. С. Цели и основания избрания меры пресечения в уголовном процессе // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 12. С. 184-190.
- Барбин В. В. Органы внутренних дел (полиция) как субъект реализации конституционно-правового режима ограничения прав и свобод человека и гражданина // Человек: преступление и наказание. 2016. № 2. С. 22-26.
- Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности: монография. Москва: Изд-во РАП, 2008. 304 с.
- Гончаров И. В. Ограничения прав и свобод человека и гражданина как элемент их обеспечения // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 3. С. 111-117.
- Кривошеев С. В. Правовое регулирование режима содержания под стражей // Общество. 2020. № 1. С. 49-54.
- Логунов О. В., Кутуев Э. К. Процессуальное принуждение: понятие, цели и виды мер. Задержание подозреваемого и обвиняемого // Правовое поле современной экономики. 2016. № 9. С. 182-195.
- Макогон А. А. К вопросу о целях меры пресечения в виде заключения под стражу // Криминалистъ. 2019. № 3. С. 42-46.
- Оводкова Л. С. К вопросу о правах человека в условиях изолятора временного содержания // Человек: преступление и наказание. 2013. № 4. С. 132-134.
- Пискунова О. В. Принуждение и его роль в обеспечении реализации права // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. № 10-13 (78). С. 384-389.
- Толстик В. А. Юридическая форма, цели и мера ограничения прав и свобод человека // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 4. С. 167-171.
- Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Республика, 2001. 719 с.
- Шаров Д. В. Цели применения мер пресечения: взгляд адвоката (тезисы) // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 72-75.
- Якимчукова В. В. К вопросу о целях заключения под стражу как меры пресечения // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 6. С. 150-152.
- Якубина Ю. П. Применение мер процессуального принуждения в целях обеспечения задач уголовного судопроизводства / / Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2020. № 2. С. 108-111.