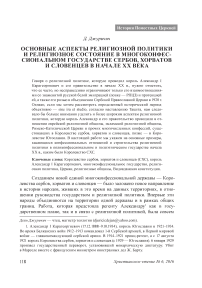Основные аспекты религиозной политики и религиозное состояние в многоконфессиональном государстве сербов, хорватов и словенцев в начале XX века
Автор: Джуричич Деян
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История Поместных Церквей
Статья в выпуске: 6 (65), 2015 года.
Бесплатный доступ
Говоря о религиозной политике, которую проводил король Александр I Карагеоргиевич и его правительство в начале XX в., нужно отметить, что ее часто, но несправедливо ограничивают только его взаимоотношениями со знаменитой русской белой эмиграцией (позже - РПЦЗ) и протекцией ей, а также его ролью в объединении Сербской Православной Церкви в 1920 г. Однако, если мы хотим рассмотреть определенный исторический период объективно - sine ira et studio, согласно наставлению Тацита, нам следовало бы больше внимания уделить и более широким аспектам религиозной политики, которую король Александр и его правительство проводили в отношении еврейской религиозной общины, исламской религиозной общины, Римско-Католической Церкви и прочих многочисленных конфессий, сущестовавших в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, позже - в Королевстве Югославии. В настоящей работе мы укажем на основные примеры, касающиеся конфессиональных отношений и строительства религиозной политики в поликонфессиональном и полиэтническом государстве начала XX в., каким было Королевство СХС.
Королевство сербов, хорватов и словенцев (схс), король александр i карагеоргиевич, многоконфессиональноe государство, религиозная политика, церкви, религиозные общины, видовданская конституция
Короткий адрес: https://sciup.org/140190138
IDR: 140190138
Текст научной статьи Основные аспекты религиозной политики и религиозное состояние в многоконфессиональном государстве сербов, хорватов и словенцев в начале XX века
не простой. Нужно было предоставить одинаковые права представителям всех религий и вероисповеданий в Королевстве СХС для более тесного сотрудничества и интеграции в народе. В своем труде о жизни и деятельности короля профессор Милован Ристич пишет, что религиозным вопросам Александр I придавал большое значение и что личное религиозное чувство было главным источником проводимой им религиозной политики2. С этим согласны профессор С.В. Троицкий3 и доктор Бранислав Глигориевич4.
Как бы то ни было, в многоконфессиональном государстве власть по внутренним и внешнеполитическим причинам была обязана признать религиозную свободу и равноправие. С другой же стороны, если религиозные общины объединенных государств считали объединение правильным, то новое образование должно было быть отделено от них (этих государств) и не иметь с ними никаких точек соприкосновения. Это значит что они (государства) должны были подняться над сферой религиозной принадлежности, причем само государство становилось не антирелигиозным, порицающим религии, а надрелигиозным, рассматривающим религию как личное дело верующих. С другой стороны, король и его правительство не могли всегда рассчитывать на концессию с Церквами, особенно с Римско-Католической, потому что она всегда считала себя суверенной, не признавая суверенитета государства над собой5. Также когда дело касалось множества ве- роисповеданий, было невозможно найти единую основу, которая бы могла стать фундаментом договора представителей всех конфессий, подходящего для проведения определенной религиозной политики. Разногласия, появившиеся в организациях всех этих конфессий, с ходом истории сильно усилились, так что найти единое направление религиозной политики было для короля Александра очень сложной задачей.
Положение и организацию всех религиозных общин, как и все законы, принятые в отношении них, нужно было рассматривать в определенных рамках общинных отношений, событий того времени, а также соотношения сил на политической арене. Королевство СХС было многоконфессиональным обществом6, которое по внутренним и внешнеполитическим причинам было обязано обеспечить религиозную свободу и равноправие.
Здесь следует напомнить и о том что государственная и политическая элита Королевства Сербии со времени короля Петра Карагеоргиевича следовала идеологии гражданского либерализма. Победа Франции и союзников после Первой мировой войны дала югославским либералам возможность занять выдающиеся позиции в Королевстве СХС. Такое проли-беральное государство, каким было в то время Королевство СХС, отвергло концепцию отношений по принципу феодальной модели церковного государства, а также концепцию государственной Церкви, применявшуюся в Королевстве Сербии по отношению к Сербской Православной Церкви7. Правда, либерализму, наследовавшему традицию религиозной терпимости и отделения Церкви от государства, никогда не удавалось полностью скоординировать и эффективно воплотить эти идеалы на Балканах, хотя в Королевстве СХС/Югославии среди части политической и интеллектуальной элиты они нашли выражение в виде так называемого интегрального югос-лавянства, которое ради предполагаемого национального единства южных славян настаивало на преодолении религиозных различий между ними8.
Все религиозные общины в Королевстве носили характер автономных организаций, которые могли самостоятельно управлять своей недвижимостью, распоряжаться своим имуществом и выделять средства из своих фондов для своих служащих. Поскольку своих доходов религиозным общинам не всегда хватало, они собирали пожертвования под защитой государственных властей. Таким способом страна помогала священникам и монахам, которые подчас не могли удовольствоваться собственными доходами. Здесь надо сказать и о том, что религиозные общины должны были содержать своих служащих, а государство не обязано было в этом участвовать. Более того, в Кодексе канонического права (Codex juris canonici) Католической Церкви вообще не говорится о том, чтобы государство помогало Церкви. Однако исторические события, сильно влиявшие на отношение державы к Церкви, побуждали высшую светскую власть участвовать в церковных делах и помогать Церкви.
Несмотря на то, что по Видовданской конституции9 религиозные общины не имели гарантированных прав на получение материальной помощи, определенные суммы из державного бюджета все-таки выделялись. Использовались они на религиозные цели и делились между религиозными общинами в зависимости от количества их членов и реальной необходимости10.
По сути, религиозное законодательство содержало пожелания и требования самих религиозных общин, с которыми велись переговоры и от которых требовалось согласие перед принятием какого-либо религиоз- ного закона. Это касалось не только Римско-Католической Церкви, но и всех других религиозных общин, с которыми заключались устные или письменные соглашения. Важным является и тот факт, что законы о вероисповеданиях затрагивают не внутреннюю структуру религиозных общин — она регулировалась их собственными религиозными уставами, — а только их внешние отношения с государством. Религиозные уставы не подлежали изменениям по воле государственной власти, в одностороннем порядке11. Эти уставы обеспечивали религиозным организациям полное, независимое и широкое право, на основании которого каждое вероисповедание могло принимать постановления, правила, положения, не нуждавшиеся в чьем-либо одобрении и согласии извне12. Что касается семейного права, религиозные общины здесь играли самую главную роль, что говорит о крепких связях между государством и религиозными общинами, хотя в конституции было предусмотрено их разделение. Браки в Королевстве Югославии заключались только по религиозным обрядам общин, в их ведении было и решение брачных споров. Религиозные общины вели книги регистрации новорожденных, венчающихся и умерших. Большое влияние общины имели также в области просвещения и здравоохранения.
С 1 ноября 1918 г., то есть со времени создания Королевства СХС13, и до принятия Видовданской конституции 28 июня 1921 г. в правовом плане было сохранено то положение религиозных общин, какое имелось налицо в странах, вошедших в состав государства14. Этот первый период был единственным периодом религиозно-политической стагнации, когда не происходило никаких изменений, продолжались применяться прежние законы и правила, действовавшие в отношении определенной религии. Сразу после провозглашения нового государства было создано Министерство по вопросам религии (07 декабря 1918 г.), обладавшее высшей наблюдательной и управляющей властью во всех религиозно-политических делах вплоть до 1929 г.15 В Королевстве сербов, хорватов и словенцев признанными считались: Сербская Православная Церковь, Римско-Католическая Церковь вместе с Греко-Католической, исламская религиозная община, еврейская религиозная община, евангелистская, реформаторская, баптистская, методистская, назаретская и старокатолическая религиозные общины. Остальные религиозные общины были запрещенными, и их членов пресле-довали16. По данным переписи населения от 1921 г. 46,6% населения принадлежало Православной Церкви. Следующей была Римско-Католическая Церковь — 39,4% приверженцев, затем исламская религиозная община — 11,2%17. Остальное население исповедовало другие религии, присутствовавшие на этих территориях еще до создания единого государства18.
В Сербии и Черногории православное вероисповедание было провозглашено государственным, а отношения между государством и Церковью были построены по принципу единства, так что сотрудники Православной Церкви считались государственными служащими и получали из бюджета страны заработную плату. Из других религиозных общин в Сербии и Черногории стоит отметить следующие: римско-католическую, евангелист-скую, старокатолическую, липованскую, общину менонитов и еврейскую и исламскую религиозные общины19. В их отношении применялся Гражданский закон 1867 г., по которому гарантировались их равенство перед законом и свобода совести и вероисповедания20. В Боснии и Герце- говине признанными считались Православная Церковь, Римско-Католическая, Евангелистская (лютеране и кальвинисты), еврейская и исламская религиозные общины21. Для них также имел силу Гражданский закон 1867 г.22
Видовданская Конституция 28 июня 1921 г. была первой попыткой решить проблемы гетерогенного общества. Чтобы все вероисповедания считались равноправными, закон отказался от принципа государственной Церкви, хотя и не полностью, потому что определенные связи между государством и Церковью все-таки были сохранены. Все историки сходятся во мнении23, что власть нашла золотую середину, отказавшись от вышеупомянутого принципа, не отвечающего запросам многоконфессионального государства, в котором не может быть привилегий для какой-то одной религии. Государство просто сохранило связь с Церковью, но все вероисповедания были равноправными. В такой системе религиозные общины являются «общественными учреждениями с особым положением и особыми привилегиями в государстве». Двенадцатая статья этого закона гарантировала свободу совести и свободу вероисповедания. Свобода совести заключалась прежде всего в праве человека на основе своих собственных убеждений и собственного опыта решить, какое вероисповедание он примет. Принуждение человека верить или участвовать в обрядах определенного вероисповедания представляет собой нарушение этого закона24. Свобода совести также заключалась в праве неверующего человека выражать свои убеждения и мысли через средства массовой информации. Свобода вероисповедания состояла в праве человека принадлежать к определенному вероисповеданию, участвовать в обрядах и носить внешние знаки принадлежности к нему25. Видовданской, а позже и конституцией, названной Ок-троисаной26, от 3 сентября 1931 г. формально была гарантирована свобода совести и вероисповедания, которая выражалась в том, что никто не был обязан участвовать в религиозных обрядах, но все были должны участвовать в государственных праздниках27. С другой стороны, когда кто-нибудь поступал на судебную, державную или военную службу, он давал клятву перед Богом, хотя об этом в Видовданской конституции ничего не было написано28.
Как видно из всего сказанного, ситуация, касающаяся плана проведения религиозной политики, ничуть не была простой, прежде всего потому, что в составе государства оказались поляризованные религиозные объединения, долгое время закрытые для диалога и сотрудничества. В таких обстоятельствах — имеются в виду и стремления к либеральным общественным достижениям того времени — нужно было строить религиозную политику, которая бы базировалась на принципах толерантности и равенства. Вся жизнь короля Александра Карагеоргиевича, безусловно, свидетельствует о том, что этот путь был долгим и трудным, но вел к выстраиванию гармоничных межрелигиозных отношений и укреплению религиозного законодательства, которое создавалось по принципам прогрессивных европейских стран XX в. Но деятельность короля Александра как покровителя религиозных интересов не ограничивается только территорией Югославии. Несомненно, ему можно приписать титул Defensor fidei — «Защитник веры». С его помощью и при его поддержке охранялась Русская Православная Зарубежная Церковь, обустроившаяся в Сремски-Карловцах. Протоколы Лозаннской конференции 1923 г. свидетельствуют о том, что благодаря усилиям представителей сербской страны ведущий иерарх Православной Церкви — Константинопольский патриарх — не потерял свою столицу в Константинополе, как желали того турки. Король Александр защищал интересы Иерусалимской Церкви в Палестине и интересы славянских монахов на горе Афон. В то же время он был самым большим сторонником примирения и сближения всех Православных Церквей, в первую очередь Сербской и Болгарской, а затем и остальных.
В заключение представим мнение уважаемого русского профессора С.В. Троицкого, который говорит, что «почти все правовые нормы, касаю- щиеся различных вероисповеданий, были приняты как раз в то время, когда законодательную власть выполнял сам король, так что мы можем сказать, что югославское религиозное законодательство — это законодательство короля. Многие вопросы религиозной политики были решены положительно для вероисповеданий только из-за личного вмешательства короля»29.
Список литературы Основные аспекты религиозной политики и религиозное состояние в многоконфессиональном государстве сербов, хорватов и словенцев в начале XX века
- Глигоријевић Б. Краљ Александар Карађорђевић (У Европској политици). Београд, 2002.
- Друштвено-политички положај и правни режим верских заједница у Југославији. Београд, 1972.
- Жутић Н. Српско православље и Англиканска црква//Православная социальная сеть Поуке.орг. URL: http://www.pouke.org/verujem/index.php?topic=1303.0 (дата обращения: 18.11.2015).
- Лазић И. Правни положај верских заједница у Старој и Новој Југославији. Загреб, 1969.
- Петрановић Б. Историја Југославије (Краљевина Југославија)//Электронная библиотека Znaci.net. URL: http://www.znaci.net/00001/93_2.pdf (дата обращения: 18.11.2015).
- Петровић В. Политика и религија на Балкану//W poszukiwaniu novego kanonu. URL: http://postjugo.filg.uj.edu.pl/baza/files/277/Politika_i_religija_na_Balkanu.pdf (дата обращения: 18.11.2015).
- Радић Р. Вером против вере. Београд, 1995.
- Ристић М. Краљ Александар Карађорђевић -Живот и рад. Београд, 1937.
- Троицки С. Верска Политика Краља Ујединитеља. Нови Сад, 1935.
- Чворовић З. Слобода вероисповести у Кнежевини и Краљевини Србији//URL: http://borbazaveru.info/content/view/5092/95/(дата обращения: 18.11.2015).