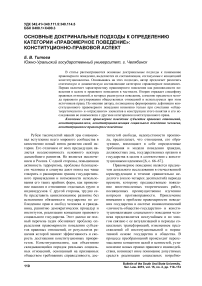Основные доктринальные подходы к определению категории «правомерное поведение»: конституционно-правовой аспект
Автор: Титова Елена Викторовна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы конституционного и административного права
Статья в выпуске: 2 т.15, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные доктринальные подходы к пониманию правомерного поведения, выделяются их составляющие, согласуемые с концепцией конституционализма. Основываясь на этих подходах, автор предлагает различать статическую и динамическую составляющие категории «правомерное поведение». Первая включает характеристику правомерного поведения как разновидности поведения в целом и правового поведения в частности. Вторая отражает специфику правовых отношений, в которых реализуется поведение, а именно предмета и метода правового регулирования общественных отношений и используемых при этом источников права. По мнению автора, полноценное формирование дефиниции конституционного правомерного поведения возможно только при сочетании «общетеоретического» и «отраслевого» элементов в конструкции этого понятия и его исследования во взаимосвязи с другими категориями конституционного права.
Правомерное поведение субъектов правовых отношений, конституционализм, конституционализация социального поведения человека, конституционное правомерное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/147149982
IDR: 147149982 | УДК: 342.41+340.111.5:340.114.5
Текст научной статьи Основные доктринальные подходы к определению категории «правомерное поведение»: конституционно-правовой аспект
Рубеж тысячелетий нашей эры ознаменовал вступление всего мирового сообщества в качественно новый виток развития своей истории. Его отличием от всех предыдущих является неоднозначность основного вектора дальнейшего развития. Не является исключением и Россия. С одной стороны, повышенная активность терроризма, проблемы безопасности человека и социума дают повод все чаще говорить о расширении границ государственного принуждения и возможности использования его таких крайних форм, как применение насилия в отношении отдельных групп и индивидуумов. С другой стороны, трудно себе представить цивилизованное развитие без исполнения обязанности государства по соблюдению прав и свобод человека и гражданина, развитию демократических процедур и институтов, реализации концепции правового социального государства. Этот далеко не полный перечень задач обозначает проблему определения правомерности поведения субъектов правовых отношений, от результатов решения которой зависят эффективность и скорость достижения конституционных приоритетов. Конституционализм, как объективно складывающийся порядок реальных социальных отношений, основанный на признанных обществом требованиях справедливости, дос- тигнутой свободы, недопустимости произвола, предполагает, что отношения, его образующие, воплощают в себе определенные требования и модели поведения граждан, должностных лиц, государственных органов и государства в целом в соответствии с конституционными идеалами [6, c. 66–67].
Правомерное поведение является предметом детального исследования в отечественной юриспруденции в течение сравнительно недолгого (около четырех десятилетий) периода времени, которому предшествовало появление многочисленных теоретических работ, посвященных преимущественно изучению вопросов противоправности. Привлечение внимания к проблеме правомерности поведения государства в системе взаимоотношений «личность-общество-государство» и конституционализации социального поведения человека представляется неслучайным и во многом связано с ее актуализацией в периоды социальных трансформаций, изменением представлений об институциональной и нормативной основе государства и общества. В процессе преобразований происходит переосмысление концептов целей и ценностей, установление новых правил правового взаимодействия, возникает иное понимание допустимых средств реализации социальных потребно- стей, идет «поиск пути к проявлению определенной конституционной культуры, адекватной осмысленному бытию данного социума» [2, c. 4]. Таким образом, можно сформулировать задачу формирования конституционных моделей поведения субъектов государственно-правовых отношений как моделей, основанных на «конституционно взаимосогласованной системе правового поведения человека и государства» [3]. И поиск таких моделей с использованием различных методологических составляющих – задача весьма трудная, но вполне достижимая [7, c. 66–68].
Преследуя цель сохранения преемственности в науке, отметим, что концепция конституционного правомерного поведения должна быть основана на существующих общетеоретических воззрениях, согласно которым правомерное поведение – это одна из разновидностей правового поведения, представляющего собой более широкое, родовое для указанной категории, явление. В наиболее общих чертах правовое поведение может быть определено как осознанное поведение индивидуальных и коллективных субъектов, обладающее социальной значимостью, предусмотренное правом и влекущее наступление юридических последствий. Причем такая осознанность должна базироваться на основополагающих конституционных ценностях, идеях и принципах, которые составляют суть концепции конституционализма, какими бы многогранными не были значения и употребления данного понятия.
В действительности, проанализировав различные научно-доктринальные воззрения на правомерное поведение, мы обнаруживаем, что все они в той или иной мере образуют «теоретические кирпичики» фундамента концепции конституционного правомерного поведения. Например, вывод В. Н. Кудрявцева о том, что правовое поведение характеризуется четкой регламентацией правом его объективных и субъективных свойств и выражается в том, что указанные свойства детально и точно установлены в законе или иных источниках права и предусмотрены предписывающими, разрешающими или запрещающими нормами. В ином случае, как пишет ученый, вне зависимости от социальной значимости поведения, оно не может рассматриваться в качестве правового [9, c. 38]. Здесь мы обнаруживаем базовую составляющую конституционализма, каковой выступает верховенство права как реализуемого элемента социального поведения человека.
Критика обозначенной позиции В. Н. Кудрявцева, содержащаяся в работах других авторов, сводится в общем виде к тому, что если установить исчерпывающий перечень действий, разрешенных и запрещаемых законом, то варианты многоаспектного социально значимого поведения, которые не охватываются рамками правовых предписаний, вынужденно должны рассматриваться в качестве юридически нейтральных, что не всегда представляется верным. Установление же границ правового (и правомерного) поведения исключительно нормами закона сужает круг источников права, позволяя рассматривать закон в качестве единственного источника, способного установить юридические параметры оценки тех или иных действий участников общественных отношений [8, c. 32–33]. Приведенные доводы, на наш взгляд, соотносятся с мнением о том, что конституционализм представляет собой нечто большее, чем некое состояние нормативности [6, c. 132], и поэтому, все более утвердительно выступает идея судебного конституционализма и конституционализации судебной практики [10].
В контексте исследуемого вопроса отметим, что установление прямой зависимости оценки поведения в качестве правомерного или неправомерного от соответствующих требований закона означало бы отождествление права и закона, следствием которого является ограниченное понимание права. В этой связи В. В. Оксамытный замечает, что восприятие права как совокупности общеобязательных норм поведения, установленных либо санкционированных государством, приводит к его формалистическому рассмотрению преимущественно на уровне правовых норм, без учета условий, в которых функционирует сложный механизм социального действия права [12, c. 41]. Данный подход также обозначает актуальность развития в концепции конституционного правомерного поведения одной из идей конституционализма, а именно идеи права как высшей справедливости, основанной на признании не тождественности права и закона, недопустимости произвола и гарантировании равной для всех граждан меры свободы [6, c. 67].
Наконец, следует отметить наличие в юридической литературе подхода, согласно которому правомерным поведением является любое поведение, которое не запрещено; при этом критерием противоправности, по мнению сторонников данной точки зрения, служит необходимость применения соответствующих санкций за совершение деяния, подвергающегося юридической оценке [11, c. 301]. Таким образом, противоправность деяния может быть «диагностирована» по признаку наличия юридической ответственности, предусмотренной законом и наступающей в связи с его совершением. Однако, как обоснованно отмечается в правовой доктрине, не всякое поведение, не отвечающее критериям противоправности, является правомерным, поскольку при таком подходе категория правомерного поведения неоправданно расширялась бы за счет включения в нее деяний, являющихся индифферентными с точки зрения права.
Заметим, что недостаточная определенность в вопросе возможности установления границ правомерного поведения, на наш взгляд, является одной из основных причин отсутствия его унифицированной дефиниции в юридической науке.
В существующих в литературе определениях правомерного поведения в основном предпринимается попытка сформулировать универсальную, в равной мере применимую для публично-правовых и частноправовых отношений, характеристику правомерности. Между тем во многих исследованиях содержится указание на наличие отраслевой специфики формирования критериев правомерности поведения субъекта правовых отношений. В частности, в юридической науке по «отраслевому» принципу предлагается выделять конституционно-правомерное, уголовноправомерное, административно-правомерное, правомерное трудовое, а также правомерное поведение в иных сферах правового регулирования.
Характеризуя конституционно-правомерное поведение, Н. А. Боброва и Т. Д. Зражев-ская рассматривают его как более высокую ступень «ответственного поведения в социально-правовой сфере, основанного на заинтересованном, творческом выполнении требований Конституции» [4, c. 26, 31–33]. Не вдаваясь в рамках данной статьи в подробный анализ данного определения, заметим, что оно, по существу, может служить и определением позитивной юридической ответственности.
Анализ определений правомерного поведения позволяет утверждать, что каждое из них включает составляющие, которые условно могут быть определены как статическая и динамическая. К первой могут быть отнесены характеристики правомерного поведения как разновидности поведения в целом и правового поведения в частности. Вторая же, выражающая специфику рассматриваемой категории применительно к тому или иному виду правовых отношений, определяется предметом и методом правового регулирования, присущими конкретной отрасли, а также системой фактически используемых ею источников права. Таким образом, одним из требований к формированию дефиниции правомерного поведения в конституционном праве является комплексный подход, учитывающий наличие «общетеоретического» и «отраслевого» элементов.
Вторым требованием, на наш взгляд, является системность подхода к исследованию правомерного поведения как категории конституционного права. В этом смысле следует признать правоту А. С. Автономова, утверждающего, что многоаспектность содержания каждой, даже отдельно взятой, категории может быть понята лишь исходя из ее расположения в системе, а также с учетом характера ее функциональных связей с иными категориями. Поэтому, даже выступая самостоятельно, категория как элемент системы заключает в себе, несет отпечаток свойств, присущих данной системе [1, c. 10].
Рассмотрение правомерного поведения в данном контексте позволяет не только констатировать многогранность содержания этой категории, но и возражать против ее «одномерного» исследования в качестве процесса, характеризующего деятельность субъекта правовых отношений. Это связано с тем, что правомерное поведение может рассматриваться, в частности, и в качестве самостоятельной конституционной ценности, условия и гарантии успешности проводимых политико-правовых преобразований и т.д., что, безусловно, повышает значимость его исследования для формирования конституционной модели государства и общества.
Список литературы Основные доктринальные подходы к определению категории «правомерное поведение»: конституционно-правовой аспект
- Автономов, А. С. Системность категорий конституционного права: дис. … д-ра юрид. наук/А. С. Автономов. -М., 1999. -361 с.
- Арутюнян, Г. Г. Конституционализация социального поведения человека в правовом государстве/Г. Г. Арутюнян//Журнал конституционного правосудия. -2013. -№ 5. -С. 1-4.
- Арутюнян, Г. Г. Конституционно-правовые гарантии реализации концепции системного конституционного мониторинга: еще раз о возможностях обеспечения стабильности и динамизма в современном социальном обществе/Г. Г. Арутюнян. URL: http://www.concourt.am.
- Боброва, Н. А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно-правовые аспекты)/Н. А. Боброва, Т. Д. Зражевская. -Воронеж, 1985. -454 с.
- Бондарь, Н. С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия/Н. С. Бондарь. -М., 2011. -544 с.
- Джагарян, А. А. Российский конституционализм: к обретению идеала/А. А. Джагарян, Н. В. Джагарян//Журнал российского права. -2013. -№ 3. -С. 131-141.
- Киреева, Е. А. Методологические вопросы социально-политической детерминации применения норм права в современной России/Е. А. Киреева//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». -2013. -Т. 13. -№ 3. -С. 66-70.
- Ковалева, Е. Л. Правомерное и противоправное поведение: их соотношение: дис. … канд. юрид. наук/Е. Л. Ковалева. -М., 2002. -288 с.
- Кудрявцев, В. Н. Правовое поведение: норма и патология/В. Н. Кудрявцев. -М., 1982. -288 с.
- Кузьмин, А. Г. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как фактор реформирования юридической практики/А. Г. Кузьмин//Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». -2013. -Т. 13. -№ 4. -С. 98-103.
- Лукич, Р. Методология права/Р. Лукич. -М., 1981. -304 с.
- Оксамытный, В. В. Правомерное поведение личности (теоретические и методологические проблемы): дис. … д-ра юрид. наук/В. В. Оксамытный. -Киев, 1990. -374 с.