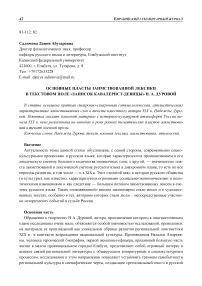Основные пласты заимствованной лексики в текстовом поле "Записок кавалерист-девицы" Н. А. Дуровой
Автор: Салимова Дания Абузаровна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье освещена краткая диахронно-синхронная (этимологическая, стилистическая) характеристика заимствованных слов в тексте известного автора XIX в. Надежды Дуровой. Попытка связать языковой материал с историко-культурной атмосферой России начала XIX в. века реализована на выводах о роли разных тематических пластов заимствований в тексте военной прозы.
Надежда дурова, текст, военная лексика, заимствования, этимология
Короткий адрес: https://sciup.org/147227715
IDR: 147227715 | УДК: 81-112:
Текст научной статьи Основные пласты заимствованной лексики в текстовом поле "Записок кавалерист-девицы" Н. А. Дуровой
Актуальность темы данной статьи обусловлена, с одной стороны, современными социокультурными процессами в русском языке, которые характеризуются проникновением в его лексическую систему большого количества иноязычных слов; с другой, — значимостью пласта заимствований в лексической системе русского языка в диахронном плане, то есть во все периоды развития, в том числе — ив XIX в. Этот «золотой век» в истории русского общества (и культуры), как известно, характеризуется огромными социально-экономическими и политическими изменениями и как следствие — большим потоком заимствованных лексем в систему русского языка. Таких «нововведений» вполне закономерно стало много и в художественных текстах, особенно в тех, авторами которых стали люди - непосредственные участники исторических событий в судьбе России.
Основная часть
Обращение к творчеству Н.А. Дуровой, автора, произведения которого в лингвистическом плане исследованы очень мало, объясняется особой значимостью исследований, проводимых на материале ее произведений как уникальном образце развития региональной лингвистики XIX в., в контексте возрождения национальной культуры. Произведения Натальи Андреевны, человека героической биографии, первой женщины-офицера, прожившей большую часть жизни в малом провинциальном городке Елабуге, представляют собой огромный интерес в аспекте связей региональной литературы с общерусским литературным и социокультурным процессом; исследования в этом направлении позволяют установить границы самобытности региональной культуры и специфические черты, создающие «региональный текст» в русской культуре [Салимова, 2014]. Материалом послужили более двухсот заимствованных слов, извлеченных методом сплошной выборки из «Записок» и проанализированных в нескольких ракурсах, например, сквозь призму подачи таких слов в этимологических словарях.
Вспомним: исследованию различных аспектов заимствования иноязычной лексики в русском языке посвящены труды И.С. Елисеевой, Л.А. Ильиной, В.Г. Костомарова, Л.П. Крысина, Е В. Ларионовой, Т.Н. Мамонтовой, В.В. Мартынова, И.Л. Медведевой и др. Как мы знаем, заимствования из древних языков (греческого, латинского), тюркизмы, галлицизмы, слова из голландского, немецкого, английского и т. д. осваивались русским языком в разные исторические эпохи, при этом, не нанося серьезного ущерба его национальной самобытности, а наоборот, обогащая его и расширяя лексическую систему.
Краткий исторический экскурс. В начале XIX столетия в рядах русских войск, сражавшихся в Пруссии, появилась загадочная личность — кавалерист-девица, русская амазонка, выступавшая под мужским именем (Соколов, потом Александров). Позднее она участвовала в войне с Наполеоном, совершила геройский подвиг и была награждена высшим знаком военного отличия — Георгиевским крестом. Нестандартность этого "происшествия в России" долгое время волновала не только армию, но и все слои общества. Истинный смысл истории гусара-девушки был не в романтической загадке, а в том патриотическом подвиге, который впоследствии стал примером любви к России, отечеству.
В 1836 г. А С. Пушкин напечатал в своем журнале "Современник" отрывки из записок Надежды Андреевны Дуровой, веденных ею в 1812-1813 гг. Тепло встреченные гением русской литературы, "Записки кавалерист-девицы" [Дурова, 1979] были вскоре выпущены отдельным изданием и имели огромный успех. И хотя на титульном листе книги не было имени автора, героиня Отечественной войны и талантливый автор Н.А. Дурова стала известна всей России.
Во-первых, рассматривая этимологию заимствований, употребленных НА. Дуровой в произведении «Записки кавалерист-девицы», следует отметить, что из выборки в двести лексических единиц, большое количество слов иноязычного происхождения относится к тюркским языкам и, прежде всего, татарскому языку. Таково, например, происхождение следующих слов: чекмень, чулок, сарай, караул, чемодан, амбар и др. Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом; батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида [Дурова, 1979, с. 10]. Слово чекмень заимствовано из татарского языка, где чикмэн — «суконный кафтан» [Фасмер, 1986, т. 4, с. 326]. Ничвалодов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный! ну, сударь, идите хоть в чулках!» [Дурова, 1979, с. 108]. Слово чулок заимствовано еще в древнерусскую эпоху из тюркских языков (например, в татарском: чолчак, "портянки, онучи"), где оно является производным от чул- (чол-, шул- и др.) "обвертывать, кутать". Чулок буквально означал "портянки, онучи", далее (ср. древнерусское слово чулъкъ) — "исподняя легкая обувь" и затем — "чулок". В этом значении в тюркских языках слово является русизмом (например, татарское слово челке) [Фасмер, 1986, т. 4, с. 380]. Весьма интересно, что слово, когда-то пришедшее из тюркских языков в русский, сегодня оценивается как русизм, используется в основном в диалектах: чолкэ (теплые длинные чулки). Я занимаю обширный сарай, это моя зала [Дурова, 1979, с. 102]. Слово сарай заимствовано в XVII веке из татарского языка, где оно означало «дом; дворец; караванса- рай; комната для жилья; стойло; тележный сарай» [Фасмер, 1986, т. 3, с. 560]. Вчера я пришла к нему часу в десятом рапортовать о исправности караулов и чуть было не спросила его самого: «встал ли полковник?» [Дурова, 1979, с. 158]. К тюркизмам относятся также чемодан, анбар (вместо амбар), улан и другие слова, выявленные нами в повести Н. Дуровой. К слову, сам АС. Пушкин, анализируя «Записки...» автора, использовал эту лексему: "С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным" [Дурова, 1979, с. 77].
В анализируемом произведении Н.А. Дуровой мы находим следующие слова, заимствованные из французского языка: артиллерия, каска, деспот, аллея, фланг, офицер, карьер, бал, экипаж, квартира, саква, арсенал и др. Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей; впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что несмотря, стоять на своем месте неподвижно [Дурова, 1979, с. 26].
Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром [Дурова, 1979, с. 30].
Слово артиллерия вошло в русский язык из французского языка (artillerie — суффиксальное производное от artillier «снабжать орудиями») через польский язык (artyleria) конца XVII в. [Фасмер, 1986, т. 1, с. 89].
Более трех недель стоим мы здесь; мне дали мундир, саблю, пику, такую тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжелоХ [Дурова, 1979, с. 20]. Слово каска заимствовано в начале XVI в. из французского языка, где casque означает «шлем» [Фасмер, 1986, т. 2, с. 206]. Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умилостивить его, ни переменить однажды принятого им намерения [Дурова, 1979, с. 2]. Слово деспот, заимствованное из французского языка в конце XVII века, где despote — «господин, хозяин дома, начальник» [Фасмер, 1986, т. 1, с. 507]. Большая каштановая аллея, темная как ночь, ведет от крыльца помещичьего дома к небольшому беленькому домику, обсаженному кругом липами [Дурова, 1979, с. 51].
Желая пройти несколько пешком по прекрасной тенистой аллее, которая ведет от Ютерзейна к Пенибергу, встали мы оба с своего кабриолета; я обернула вожжи около медной шишечки спереди кабриолета и, в надежде на смирение старого коня, пустила его идти по дороге одного [Там же, с. 112]. Слово аллея заимствовано через польский язык (aleja «аллея») из французского языка (аПёе «проход, дорога»). Французское слово аПёе является производным от alter «идти» [Фасмер, 1986, т. 1, с. 71].
С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе [Дурова, 1979, с. 4]. Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке; в ней не было уже ни одного человека [Там же, с. 91]. Слово фланг было заимствовано в эпоху Петра I из французского языка, где «Дапс» означал «бок» [Фасмер, 1986, т. 4, с. 198]. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда вырываются у них слова: лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву! Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать [Дурова, 1979, с. 91].
«Куда ты едешь, Александров? » — спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков [Там же, с. 92]. Слово офицер заимствовано в Петровскую эпоху через немецкий язык из французского языка, где officier (лат. officiarius) «должностное лицо; служащий» [Фасмер, 1986, т. 3, с. 174].
Итак, я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер [Дурова, 1979, с. 6]. Слово карьер в приведенных выше контекстах означает «самый быстрый бег лошади», заимствовано из французского carriere «ипподром, карьер» [Фасмер, 1986, т. 2, с. 205].
Я так же ревностно посещаю графские балы и так же ревностно танцую, как и мои новые товарищи [Дурова, 1979, с. 158]. Здесь и занятия мои и удовольствия были совсем другие; тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем; она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы; я увидела себя в другой сфере [Там же, с. 8]. Слово бал, согласно данным словаря М. Фасмера, появляется в русском языке в начале XVIII в. и происходит от французского слова bat, образованного от глагола bailer «танцевать» [Фасмер, 1986, т. 1, с. 111].
Входя на двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника; увидела множество экипажей и верховых лошадей [Дурова, 1979, с. 15].
Мы не заметили, что лошадь, чувствуя легкость экипажа, стала прибавлять шагу; но, наконец, яувидела, что она далеко ушла вперед; я побежала, чтобы остановить ее, но этим сделала то, что лошадь также побежала, и все шибче, шибче, вскачь и, наконец, во весь дух [Дурова, 1979, с. 112]. Слово экипаж заимствовано в XVIII в. из французского языка, где equipage (команда; команда корабля; снаряжение) является производным от equipper (снаряжать судно) [Фасмер, 1986, т. 4, с. 515].
С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли; их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через десять минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры [Дурова, 1979, с. 74]. Не видя надобности дожидаться его возврата, мы ушли на свою квартиру [Там же, с. 112]. Лексема квартира заимствовано в начале XVIII в. из французского языка quartier через немецкий язык Quartier [Фасмер, 1986, т. 2, с. 217].
Непонятно современному читателю слово «саква»; Саквы его были наполнены разною провизиею и возвышались двумя холмами по бокам его лошади [Дурова, 1979, с. 23]. Казаки, поймавшие моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан; я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало! [Там же, с. 24-25]. Слово сак (саква) заимствовано в XIX в. из французского языка, где sac (сумка, мешок), восходит к греческому sakkos (мешок) [Фасмер, 1986, т. 3, с. 546].
Слово лагерь заимствовано в Петровскую эпоху из немецкого языка, где Lager (лагерь, логово) производное от той же основы, что и liegen (лежать) [Фасмер, 1986, т. 2, с. 445]. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье;
подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ [Дурова, 1979, с. 145].
Слово униформа в словаре М.Фасмера отсутствует, однако можно предположить, что это слово заимствовано из немецкого языка, в котором Uniform (форма; форменная одежда; мундир; обмундирование).
В произведении встречаются также заимствования из польского языка: коляска, карета, трактир, штык, пан, религия, компания, навигация, кляштор, экспедиция и др. Полковник и я сели в коляску и отправились в Раздорскую станицу, где был у него дом [Там же, с. 15]. Наконец мы пустились в путь к Петербургу. Коляска наша чуть двигается, мы тащимся, а не едем [Там же, с. 38]. Слово коляска заимствована в конце XVII в. из польского языка, в котором kolaska (повозка) образовано от kolo (колесо) [Фасмер, 1986, т. 2, с. 300].
Слово штык заимствовано в начале XVIII в. из польского языка, в котором sztyk (острие, укол), производное от немецкого stechen (колоть) [Там же, т. 4, с. 481-482]. Но, к несчастию, выбор этот не был выбором отца ее, гордого властолюбивого пана малороссийского [Дурова, 1979, с. 2]. Слово пан заимствовано из польского и чешского языков, где pan (господин, помещик) [Фасмер, 1986, т. 3, с. 195-196]. Встречаются в произведении слова, редко употребительные в современном русском языке: Въехали таинственно, без шуму, с предосторожностями вытянули фронт против стен какого-то кляштора, и Вонтробка послал унтер-офицера и четырех гусар в этот кляштор искать беглецов наших. Разумеется, посланные возвратились ни с чем, потому что кляштор был кругом заперт [Дурова, 1979, с. 52]. Слово кляштор заимствовано из польского языка в начале XVIII века, где klasztor (католический монастырь) [Фасмер, 1986, т. 2, с. 261].
В произведении встречаются также заимствования из других языков, например, из арабского: кандалы. Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде; только на ученье тяжелая, дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо, когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный ма-невр\ [Дурова, 1979, с. 21]. Слово кандалы заимствовано из арабского языка, в котором слово qandani (двойные путы) — форма двойственного числа от qaid (завязка) [Фасмер, 1986, т. 2, с. 178]. Из голландского языка заимствовано слово клинок, в котором слово kling (клинок, лезвие боевого оружия) [Там же, т. 2, с. 251: «Я буду носить тебя с честию», — сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны [Дурова, 1979, с. 11]. Слово флюгер также имеет голландское происхождение vleugel (крыло, флюгер). Оно было заимствовано в эпоху Петра I [Фасмер, 1986, т. 4, с. 200].
Таким образом, анализ заимствованной лексики в произведения НА. Дуровой «Записки кавалерист-девицы» показал, что в произведении встречаются главным образом заимствования из французского, татарского, немецкого и польского языков.
Во-вторых, тематический аспект исследования заимствований позволяет заключить: большая часть этимологически «чужеродных» слов относится к бытовой и военной лексике, при этом налицо закономерность: тюркизмы характерны в основном для бытовой лексики. Улан, выслушав приказание, тогда же взял меня с собою в сборню, так называется изба, а иногда и сарай, где учат молодых солдат всему, что принадлежит до службы [Дурова, 1979, с. 19]. Единственным исключением из данного тематического ряда является слово караул, относящееся к военной тематике:
Заимствования из французского языка по своей тематике, в основном, — это военные термины: артиллерия, каска, фланг, офицер, арсенал, эскадрон и т. д. Он приметно обрадовался моему предложению, и я тотчас спросила артиллерийского унтер-офицера, возьмет ли он под свой присмотр раненого улана и его лошадь! [Там же, с. 31]. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями! [Там же, с. 26]. Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию; в одно мгновение Подъямполъский скомандовал: «Второму полуэскадрону правое плечо вперед» [Там же, с. 84]. В одну из этих остановок раздался близ меня повелительный возглас: «Господин офицер!» [Там же, с. 128]. Эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу... [Там же, с. 5]. Кроме военной тематики, встречаются слова французского происхождения, относящиеся к конному делу, например, слово «карьер», которое означало самый быстрый бег лошади;
Также в тексте распространена обиходная лексика, заимствованная из французского языка: бал, экипаж, саква, квартира, аллея и т. д.: Ильинский пошел; а я, сев на кабриолет, поехала занять квартиру, где, отдав немцу-работнику лошадь свою в смотрение, пошла к начальнику этого города [Там же, с. 112]. Эмоционально-оценочный характер имеет слово деспот, заимствованное из французского языка, и характеризующее человека властного, не терпящего пререканий со стороны: Бесполезно бедная девица уверяла, что не может петь, что она простудилась, что у нее насморк и болит горло; деспот дядя ничему не внимал и настоятельно требовал, чтоб она сию минуту пела; должно было покориться и запеть перед двумя молодыми уланами: она запела\ [Там же, с. 124].
Заимствования из немецкого языка большей частью относятся к военной тематике: лагерь, ротмистр, ранжир, егерь, триумф, униформа; Третьи сутки прошли так же: лагерь занят под местечком Кадневым. Я не в силах долее выносить; возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать, а сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся [Там же, с. 81]. Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру [Там же, с. 85].
Сев, я опустила повода, и мой конь, верный, превосходный конь мой перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким, быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ранжир [Там же, с. 25]. Впереди нас егеря перестреливаются с неприятельскими стрелками через речку; наш полк поставлен тотчас за егерским; но как нам совсем уже нет дела, то и приказано сойти с лошадей [Там же, с. 24].
Заимствования из польского языка, как правило, представлены бытовой тематикой: коляска, карета, трактир и т. д.: Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге [Там же, с. 2]. Однако ж Ильинский, Рузи и я остались в трактире поужинать на скорую руку и после пустились догонять эскадрон вскачь, гремя по каменной мостовой [Там же, с. 111].
Среди заимствований из польского языка в тексте часто видим слова из религиозной тематики: кляштор, а заимствования компания, навигация, экспедиция, встречающиеся в произведении, относятся и к обиходной, и к военной лексике:
Я думала, что будет приступ; но вся тревога наша кончилась тем, что мы бросили в Гарбург несколько десятков бомб и ушли обратно на свои квартиры. Экспедиция эта сделала вред одной только мне [Там же, с. 111]. В качестве обозначения господина используется слово пан; Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л*** в десяти шагах от себя [Там же, с. 74]. Слово штык относится к военной тематике: Милорадович везде посылал одну меня, и я во все продолжение маневров летала в своем золотом мундире с мантиею на плечах, как блестящий метеор, мелькая среди стреляющих, марширующих, кричащих «ура!» и идущих на штыки [Там же, с. 60].
Таким образом, характеризуя тематический состав заимствованной лексики, можно отметить следующее. Большая часть заимствований из татарского языка описывает быт, предметы одежды, обихода и т. и. Заимствования из французского и немецкого языков по своей тематике в основном — военные термины. Заимствования из польского языка, как правило, представлены бытовой тематикой.
Стилистико-функциональные особенности использования ряда заимствованных слов из текста позволяют делать тоже интересные с точки зрения современного языка выводы. В повести мы выявили как слова-заимствования, ставшие уже давно примерами общеупотребительной лексики, так и лексемы, значение которых можно понять, лишь при обращении к справочникам. Например, заимствование саква означает небольшой мешок у кавалеристов и артиллеристов для сухарей, овса, крупы, соли и т. и. Казаки, поймавшие моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан; я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало! [Там же, с. 24-25]. Слово ранжир — типичный варваризм, не вошедший в русский язык. Иноязычный облик слова резко выделяет его на фоне лексики русского языка. У НА. Дуровой данное слово фигурирует в качестве термина, обозначающего структурное подразделение воинского формирования: Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила все мое внимание [Там же, с. 23]. Советую тебе умирать на коне и в своем ранжире, а то предрекаю тебе, что ты или попадешься бесславно в плен, или будешь убит мародерами, или, что всего хуже, будешь сочтен за труса\ [Там же, с. 28]. В современном русском языке ранжир практически не используется, но широко употребляется глагол ранжировать и отглагольное имя ранжирование.
Употребление слова триумф в следующих контекстах, с точки зрения современного языка, стилистически неоправданно: Станкович все делает с каким-то излишним триумфом [Там же, с. 51]. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место [Там же, с. 7], что позволяет делать нам вывод о том, что в XIX в. слово «триумф» имело более широкий диапазон употребления.
Бросается в глаза словоформа униформ, которая обозначает военное обмундирование. В произведении Н.А. Дуровой данное заимствование употребляется в форме мужского рода, что нетипично для современного русского языка, в котором существует имя существительное униформа, относящаяся к разряду имен существительных женского рода: Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот... Заимствованное из арабского языка слово кандалы в следующем примере употреблено Н.А. Дуровой в переносном смысле. Метафорический перенос основан на сходстве признаков, когда казенные сапоги, так же как и кандалы, затрудняют передвижение в силу их неудобства: Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде; только на ученье тяжелая, дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо, когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный маневр\ [Дурова, 1979, с. 21].
Заключение
Использование широкого пласта заимствованной лексики в «Записках» Н. Дуровой вполне закономерно: автор — непосредственный участник боевых действий, пешком и на коне объехавшая Европу, побывавшая во многих странах, встречавшаяся с носителями разных языков и представителями разных государств, прекрасно знала это лексическое поле-континуум, состоящее из многоголосой и многоязыковой палитры. Так, уже для текстов начала XIX в. была характерна такая полифония русского художественного текста. Несомненно, важен учет этого аспекта в подготовке студентов-филологов и, что подчеркнем особо, обучающихся в городе, в котором долгую жизнь проживала Н. Дурова, то есть эта тема переплетается как с интегративными связями дисциплин, так и воспитанием толерантности к народам в полиязычном регионе. Этимолого-стилистический анализ ономастического корпуса «Записок» представляет тоже огромный научный интерес, такое исследование — перспективный ресурс в создании картины языковой личности автора Н. Дуровой.
Список литературы Основные пласты заимствованной лексики в текстовом поле "Записок кавалерист-девицы" Н. А. Дуровой
- Дурова Н.А. Записки кавалерист-девицы. Переиздание. Казань: Татарское кн. изд-во, 1979. 200 с.
- Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 тт. Т. 6: Критика и публицистика. / А.С. Пушкин. Ленинград: Наука, 1978. 765 с.
- https://elibrary.ru/item.asp?id=23426252 Салимова Д.А. Антропонимы как поэтонимы в текстах "елабужских авторов (на материале "Записок кавалерист-девицы Н.А. Дуровой) // Многоязычие в образовательном пространстве. Сер. "Языковое и межкультурное образование". Ижевск, 2014. С. 214-217.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х тт. / Пер. с нем. и доп. члена-корресп. АН СССР О.Н. Трубачева; под ред. проф. Б.А. Ларина. Москва: Прогресс, 1986.